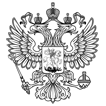
–Ю–±–Ј–Њ—А —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–§
вДЦ–±/–љ –Њ—В 31.10.2025
–Ю–±–Ј–Њ—А –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ —В—А–µ—В–Є–є –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї 2025 –≥–Њ–і–∞
–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Њ–±–Ј–Њ—А –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –°—Г–і–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ - –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і) –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–µ 2025 –≥–Њ–і–∞.
I
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞
1. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 17 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 29-–Я –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –і–∞–ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 24.5 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ - –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –≤ —Б—А–Њ–Ї, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Њ–Љ - –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ.
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ - –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Њ–Љ-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї, –Њ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ:
–њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —Б—Г–і–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –і–ї—П –Є—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –Є—Е –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –Є–ї–Є –љ–µ–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О, –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М –ї–Є –Є–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–Љ –і–ї—П –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –ї–Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–є –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є;
—В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–љ—П—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –Є–ї–Є —Б—Г–і —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В, —З—В–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П, –њ—А–Є–≤–µ–і—И–µ–µ –Ї –µ–≥–Њ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –Є–ї–Є –љ–µ–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О, –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–є (–љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–є) –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –µ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М (–њ–Њ–ї–љ–Њ—В–∞) –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є;
–і–ї—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —Б—Г–і–Њ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ-—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–є –љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –і–ї—П –Є—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Є –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ;
—А–∞–Ј–Љ–µ—А –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ—Г –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–Є, —А–∞–≤–љ—Л–є –Є–ї–Є –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–Є–є —В–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —З–∞—Б—В—М —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П, —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є - –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 24.5 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є - —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б—Г–±–≤–µ–љ—Ж–Є–Є –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –љ–∞ –Є–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞;
–њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 24.5 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –љ–µ –≤–ї–µ—З–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–µ—Б—П –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞; –Њ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —З–∞—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤.
2. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 2104-–Ю –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 16.2 –Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 27.10 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 16.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М–µ–є 16.4 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞, –≤–ї–µ—З–µ—В –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–є –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ –і–≤—Г–Ї—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, —П–≤–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, —Б –Є—Е –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –Є–ї–Є –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –ї–Є–±–Њ –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є—О –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П; –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж - –Њ—В –і–µ—Б—П—В–Є —В—Л—Б—П—З –і–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —В—Л—Б—П—З —А—Г–±–ї–µ–є.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 27.10 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є–Ј—К—П—В–Є–µ –≤–µ—Й–µ–є, —П–≤–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –ї–Є–±–Њ –њ—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞, –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –≤–µ—Й–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –ї–Є—Ж–µ, –Є –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б—В–∞—В—М—П—Е 27.2, 27.3, 28.3 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞, –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і–≤—Г—Е –њ–Њ–љ—П—В—Л—Е –ї–Є–±–Њ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є.
–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і, –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є—П –љ–µ–Ј–∞–і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –і–ї—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 16.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Б–µ—Е —В–∞–Ї–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –Є –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–Є—Б–Ї—А–µ—Ж–Є–Є.
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –ґ–µ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 27.10 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 16.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –≤–ї–µ—З–µ—В –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤—Б–µ—Е –Є–Ј—К—П—В—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –і–ї—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 29.10 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –Є–Ј—К—П—В—Л –Є–Ј –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –Є–ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є–Є.
II
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞
–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л
3. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 3 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 27-–Я –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –і–∞–ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞–±–Ј–∞—Ж–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 18 –Я—А–∞–≤–Є–ї –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є 9, 10 –Є 13 —Б—В–∞—В—М–Є 3 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 7 –љ–Њ—П–±—А—П 2011 –≥–Њ–і–∞вДЦ 306-–§–Ч ¬Ђ–Ю –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В¬ї, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–±–Њ—А—Л, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –§–Њ–љ–і–Њ–Љ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ –Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є (—Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2012 –≥–Њ–і–∞вДЦ 142).
¬Ђ–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –і–∞—В–µ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О 9 —Б—В–∞—В—М–Є 3 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В¬ї, —З–ї–µ–љ–∞–Љ —Б–µ–Љ–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –њ–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Г –Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е (—Г–Љ–µ—А—И–Є—Е) –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –ї–Є–±–Њ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–≤–Љ—Л –і–Њ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2012 –≥–Њ–і–∞.
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Њ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–∞—П –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 9 —Б—В–∞—В—М–Є 3 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В¬ї –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –ї–Є—Ж –і–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П —Б 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2012 –≥–Њ–і–∞.
III
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞
4. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 8 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 28-–Я –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –і–∞–ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 1033 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б –µ–≥–Њ —Г—З–µ—В–Њ–Љ —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ–Є –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л.
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–љ–Њ –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—Б—Б–Є–Є (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–µ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1033 –У–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є) - –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–ї–µ–Ї—Г—Й–Є—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ, –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є –і–Њ—Б—В—Г–њ—Г –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ - –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ–Є –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, —З—В–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –≤–ї–µ—З–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ.
5. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 18 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 30-–Я –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –і–∞–ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3.1, –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —Б—В–∞—В—М–Є 8 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1996 –≥–Њ–і–∞вДЦ 159-–§–Ч ¬Ђ–Ю –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П—Е –њ–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –і–µ—В–µ–є-—Б–Є—А–Њ—В –Є –і–µ—В–µ–є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –±–µ–Ј –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є¬ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 10 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2006 –≥–Њ–і–∞вДЦ 256-–§–Ч ¬Ђ–Ю –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—А–∞—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є —Б–µ–Љ–µ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є¬ї.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞ –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–∞—О—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–± –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –ї–Є—Ж –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –і–µ—В–µ–є-—Б–Є—А–Њ—В –Є –і–µ—В–µ–є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –±–µ–Ј –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –ґ–Є–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г–ґ–µ –≤—Л–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Б–µ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Є–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є–њ–Њ—В–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–і–Є—В–∞ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ) –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞.
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ - –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–љ–Є:
–љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г–ґ–µ –≤—Л–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Б–µ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—В–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –љ–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –≤ —Б–Є–ї—Г —Д–∞–Ї—В–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є–њ–Њ—В–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–і–Є—В–∞;
–љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г—А–Њ–≤–љ—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –Њ–±—Й–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Љ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –Є—Е –і–Њ–ї–µ–є –≤ –њ—А–∞–≤–µ –Њ–±—Й–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–Њ–µ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ) –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞.
6. –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 31-–Я –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –і–∞–ї –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞–±–Ј–∞—Ж–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 5 —Б—В–∞—В—М–Є 32 –Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 42 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 26 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1995 –≥–Њ–і–∞вДЦ 208-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е¬ї.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞ –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Ж–Є–є, —А–∞–Ј–Љ–µ—А –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–∞ –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤ —Г—Б—В–∞–≤–µ –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ—Б–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ –њ–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –∞–Ї—Ж–Є—П–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ, –∞ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Ж–Є–є –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і—Л –Ј–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М (–љ–µ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М).
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г, –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є, –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Ж–Є–є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Є–Љ –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ (–њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ) –њ—А–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤.
–Т–њ—А–µ–і—М –і–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ:
–њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤ –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ - –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Ж–Є–є, —А–∞–Ј–Љ–µ—А –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–∞ –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤ —Г—Б—В–∞–≤–µ –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Ж–Є–є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В;
–µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –±—Г–і–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–њ—А–µ—В—Г, –њ—А–∞–≤–∞ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Ж–Є–є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—Г—В–µ–Љ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ —Б –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ, —А–∞–≤–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ–µ –љ–µ –≤—Л–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞–Љ –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ –Ј–∞ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ –њ–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –∞–Ї—Ж–Є—П–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ.
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Л, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –∞–±–Ј–∞—Ж–µ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —А–µ–Ј–Њ–ї—О—В–Є–≤–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
IV
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —О—Б—В–Є—Ж–Є–Є
7. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 3 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 1839-–Ю –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 15 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 3 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2008 –≥–Њ–і–∞вДЦ 242-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–µ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –Є —З–∞—Б—В–µ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 161 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 15 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–µ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≥–µ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ—О—В —Б—Г–і—Л, –Њ—А–≥–∞–љ—Л –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –Њ—А–≥–∞–љ—Л –і–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –Њ—А–≥–∞–љ—Л, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 161 –£–Я–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є, —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Є —И–µ—Б—В–Њ–є —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є (—З–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤–∞—П); –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–і–∞–љ—Л –≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—И—М —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –і–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—П –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Љ–Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ —Н—В–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤, —Б–≤–Њ–±–Њ–і –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ (—З–∞—Б—В—М –≤—В–Њ—А–∞—П).
–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–∞—П—Б—П –≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–∞–Ј–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е –≥–µ–љ–Њ–Љ–љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є (–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ–є) –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П —З–∞—Б—В—М 1 —Б—В–∞—В—М–Є 15 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥–µ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –Є–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ, –µ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –ї–Є–±–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л –і–∞–љ–љ—Л—Е –≥–µ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є.
–£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞—В—М–µ–є 161 –£–Я–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–∞ —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є (—А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П) –ї–Є—Ж–∞–Љ, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Є–ї–Є –≤ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–µ–Љ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П) –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Н—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є—Ж. –Т —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ—Л—Е, –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В–Є - –Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В—М—О, —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –ї–Є—Ж–∞–Љ —В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А—П–Љ–Њ –љ–µ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В –Є—Е (–Є—Е —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤) —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ–ї. –Ъ —В–∞–Ї–Є–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ - –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ - –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–Є–ї—П –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ–Є –≤ –±–∞–Ј–∞—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –і–µ–ї, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –і–ї—П –ї–Є—Ж, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–µ–і–µ—В—Б—П –Є–ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Н—В—Г –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–≤–Є–і—Г –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є (–Љ–Њ–ї–µ–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ-–≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є) —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –µ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤.
8. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 17 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 1840-–Ю –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —З–∞—Б—В–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 38, —Б—В–∞—В–µ–є 189.1 –Є 453 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 3 —З–∞—Б—В–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 38 –£–Я–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М —Е–Њ–і —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞.
–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 189.1 –£–Я–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–∞–≤–Ї–Є, –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-—Б–≤—П–Ј–Є.
–°—В–∞—В—М—П 453 –£–Я–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і, –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ–њ—А–Њ—Б –ї–Є—Ж–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Љ–µ–ґ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–µ, –њ–Њ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ –Є–ї–Є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ - —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-—Б–≤—П–Ј–Є –≤–љ–µ –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г —Б—В–∞—В–µ–є 172, 173 –Є 189.1 –£–Я–Ъ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є, –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-—Б–≤—П–Ј–Є, –њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 453 —Н—В–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї), –≤ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ–Љ—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –≤ –і–∞—З–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ–Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-—Б–≤—П–Ј–Є –≤–µ–ї–Њ –±—Л –Ї –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –Њ—В –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є —Б—Г–і–Њ–Љ, —Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –±—Л –µ–≥–Њ –≤ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ, –њ–Њ–Њ—Й—А—П—П —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Е –Њ—В –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–і–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ.
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ—Л –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–∞–≤–∞ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–∞—В—М –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–Њ–Љ—Г –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О, –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–≤–Њ—О –Ј–∞—Й–Є—В—Г –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ.
9. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 17 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 1852-–Ю –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —З–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤—Г—О —Б—В–∞—В—М–Є 283 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ю—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ–∞—П –љ–Њ—А–Љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —В–∞–є–љ—Г, –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–∞ –Є–ї–Є —Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, —А–∞–±–Њ—В–µ, —Г—З–µ–±–µ –Є–ї–Є –≤ –Є–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е –ї–Є—Ж, –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 275 –Є 276 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞.
–Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г—П –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –Ї —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ - –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Є –Є –њ—Л—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ —Б—Г–і–∞, –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–∞—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ї–Њ—А—А—Г–њ—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–∞–є–љ–µ –Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞—Б—Б–µ–Ї—А–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —А–∞—Б—Б–µ–Ї—А–µ—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–∞–є–љ–µ, –љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–є —В–∞–є–љ—Л –≤ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–∞ –Є–ї–Є —Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, —А–∞–±–Њ—В–µ, —Г—З–µ–±–µ –Є–ї–Є –≤ –Є–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Э–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Н—В–Њ –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —Б—Г–і–∞–Љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–і–µ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞.
10. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 17 –Є—О–ї—П 2025 –≥–Њ–і–∞вДЦ 1870-–Ю –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є.1 —Б—В–∞—В—М–Є 214 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Њ—В–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ –і–љ—П –µ–≥–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 125, 125.1 –Є 214.1 –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞; –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Є–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Б—А–Њ–Ї –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ –і–љ—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Ъ–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і, –і–∞–≤–∞—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –Є–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—З–Є–љ –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ї–∞–Ї –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –љ–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—О –Є –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О –і–µ–ї–∞, –∞ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Л–≤–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –≤ –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–Љ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є –љ–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–ї–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –≤–µ–ї–Њ –±—Л –Ї –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ–Ј–Њ—В–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –Ї —Г–Љ–∞–ї–µ–љ–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –Њ—В –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—О, –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—О –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ —Г—Й–µ—А–±–∞, –Ї –љ–Є–≤–µ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—О –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —Б—В–∞—В–µ–є 15 (—З–∞—Б—В—М 2), 45 (—З–∞—Б—В—М 1) –Є 52 –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Э–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –і–ї—П –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–∞¬ї



 4
–љ–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞
4
–љ–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞