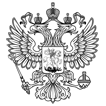
–Ю–±–Ј–Њ—А —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–§
вДЦ3 –Њ—В 08.10.2025
–Ю–±–Ј–Њ—А —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є вДЦ 3 (2025)
–£–Ґ–Т–Х–†–Ц–Ф–Х–Э
–Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–Њ–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є
8 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2025 –≥.
–°–£–Ф–Х–С–Э–Р–ѓ –Ъ–Ю–Ы–Ы–Х–У–Ш–ѓ –Я–Ю –У–†–Р–Ц–Ф–Р–Э–°–Ъ–Ш–Ь –Ф–Х–Ы–Р–Ь
–Ч–∞—Й–Є—В–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–µ—Й–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤
1. –Я—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, —Б—Г–і—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, –Ї —З—М–Є–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ –Є –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –ї–Є–±–Њ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П—В—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞.
–Я—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–і–µ–ї–Њ–Ї —Б –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є 301 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П. –Я–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—О —В–∞–Ї–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Є–ї–Є –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –Њ –њ—А–∞–≤–µ –≤ –Х–У–†–Э.
–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ш–љ–≥—Г—И–µ—В–Є—П (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ) –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є —А—П–і—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї –¶., –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П) –Њ—В 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2018 –≥. вДЦ 494 ¬Ђ–Ю –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П
¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї –Є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б–Ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ.
–°—Г–і –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —З–∞—Б—В–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤. –Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є
–Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї. –Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤ –≤ –Х–і–Є–љ–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–µ—Б—В—А–µ –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Х–У–†–Э) —А—П–і–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –¶.
–°—Г–і—Л –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ –Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –¶., –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б–њ–Њ—А–∞.
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є—П вИТ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–±, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ–љ—Б–Є–Є, –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –Є –Є–љ—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л (—З–∞—Б—В–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 7).
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В—Г 7 —Б—В–∞—В—М–Є 395 –Ч–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 4 —З–∞—Б—В–Є 4 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ш–љ–≥—Г—И–µ—В–Є—П –Њ—В 14 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2007 –≥.
вДЦ 50-–†–Ч ¬Ђ–Ю —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є¬ї (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є) –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Ш–љ–≥—Г—И–µ—В–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ (–њ–Њ –≤—Л–±–Њ—А—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞) –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞ –µ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ–Є –Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Г –љ–Є—Е –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Т —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вИТ –Ь–Ю ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї) –Њ—В 25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2017 –≥. вДЦ 10/2-1 —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г—З–µ—В–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П
–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Ю ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї.
–Ъ–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ, –¶. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ—В 30 –љ–Њ—П–±—А—П 2018 –≥. –Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –љ–∞ —Г—З–µ—В –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–µ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –Є –Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є—Е (–Љ–∞–ї–Њ–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е) —Б–µ–Љ–µ–є. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 26 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2019 –≥. вДЦ 343 —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ —Б—Е–µ–Љ–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2018 –≥.
вДЦ 494 ¬Ђ–Ю –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ –Ь–Ю ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї –¶. –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 600 –Ї–≤. –Љ, –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ 21 –љ–Њ—П–±—А—П 2019 –≥.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Х–У–†–Э –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–є —Г—З–µ—В 12 –љ–Њ—П–±—А—П 2019 –≥., –µ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М
¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤¬ї —Б –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–ї–Њ–є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є¬ї.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—В 17 –Љ–∞—А—В–∞ 2020 –≥. –¶. –њ—А–Њ–і–∞–ї–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Ы., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ї—Г–њ–ї–Є- –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—В 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2020 –≥. –њ—А–Њ–і–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ A., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–Њ–і–∞–ї –µ–≥–Њ –Ґ. –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—В 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥. –Я—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ґ. –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥.
–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –¶., —Б—Г–і —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –ї–Є—Ж, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ–Є –Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –¶. –Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –µ–µ —Б–µ–Љ—М–Є –≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л—И–µ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–Њ–Љ.
–Т –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 56 –У–Я–Ъ –†–§ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ—А–Љ—Л –њ—А–∞–≤–∞ –±–µ–Ј –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –≤—Б–µ—Е —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Г –¶. –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ –і–∞–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є —В–Њ–Љ—Г, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –ї–Є—Ж –Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ—Л –ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –¶. —З—М–Є-–ї–Є–±–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–Њ–Љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞.
–Ъ–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ, –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –¶. –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ
–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –Є—Б–Ї –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 —Б—В–∞—В—М–Є 33 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2001 –≥.
вДЦ 137-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ч–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, вИТ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 4 —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, —В–∞–Ї–ґ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Љ–µ–љ—Л, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–µ—А–≤–Є—В—Г—В–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, –љ–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, –Є –љ–∞ –≤—Л–і–∞—З—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ч–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—Г –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –љ–∞ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞.
–°—Г–і–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Г—З—В–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Б–Ї –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤–∞, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–Љ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б—М –≤ –Х–У–†–Э –љ–∞—А—Г—И–Є–ї–∞ –њ—А–∞–≤–Њ –Є—Б—В—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б–Ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Ґ–∞–Ї, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 209 –У–Ъ –†–§ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ—А–∞–≤–∞ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Т —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 301 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П.
–°—В–∞—В—М–µ–є 302 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Њ —Г –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—В—М, –Њ —З–µ–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–љ–∞—В—М (–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М), —В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г—В–µ—А—П–љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ, –ї–Є–±–Њ –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Њ —Г —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –ї–Є–±–Њ –≤—Л–±—Л–ї–Њ –Є–Ј –Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Є–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Є—Е –≤–Њ–ї–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 1).
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 304 —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, —Е–Њ—В—П –±—Л —Н—В–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 52 —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–Њ–≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Р—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є вДЦ 10/22 –Њ—В 29 –∞–њ—А–µ–ї—П 2010 –≥. ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є—Е –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–µ—Й–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 29 –∞–њ—А–µ–ї—П 2010 –≥. вДЦ 10/22) —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї–Њ–≤, —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤ –Х–У–†–Я. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –≤ —А–µ–Ј–Њ–ї—О—В–Є–≤–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ —А–µ—И–µ–љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –ї–Є–±–Њ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б–і–µ–ї–Ї–Є, —В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤ –Х–У–†–Я.
–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –µ–µ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤ –Х–У–†–Я.
–Т —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б—М –≤ –Х–У–†–Я –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ –Є—Б—В—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–Њ –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –Є–ї–Є –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П (–њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ј–∞ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є, –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Є–њ–Њ—В–µ–Ї–∞ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М), –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Њ –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї–∞ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–Є—Ж–∞, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –љ–µ –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–µ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –і–ї—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —Б—Г–і—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Є—Б—В—Ж–∞ –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Г –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —З—М–µ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Н—В–Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї.
–°—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –≤ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –Њ –њ—А–∞–≤–µ –≤ –Х–У–†–Э –љ–∞ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–і–µ–ї–Њ–Ї –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З–ї–Є, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 167 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є –≤—Б–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–і–µ–ї–Ї–µ, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М
–њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –µ—Б–ї–Є –Є–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 52 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 29 –∞–њ—А–µ–ї—П 2010 –≥. вДЦ 10/22, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –≤ –≤–Є–і–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –≤ –Х–У–†–Э. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л, —В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В.
–Я—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ —А–µ–µ—Б—В—А–µ –Њ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –¶. –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –±–µ–Ј —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б—Г–і—Л –љ–µ —Г—З–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ –ї–Є—И—М –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–∞–љ–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ, –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П вИТ –Ґ., –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Њ –њ—А–∞–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ –Х–У–†–Э.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Њ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї, —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 2003 –≥. вДЦ 6-–Я, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–њ–Њ—А –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 167 –Є 168 –У–Ъ –†–§, –µ—Б–ї–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Л –і–≤–µ —Б–і–µ–ї–Ї–Є –Є –њ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–і–µ–ї–Ї–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 302 –У–Ъ –†–§.
–Я—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –ґ–µ —Б–њ–Њ—А–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є 302 –У–Ъ –†–§ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —В–∞–Ї–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ—Б—В—М —Б–і–µ–ї–Ї–Є, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤–Њ–ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П, –љ–∞—З–∞–ї–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–Њ—А–Њ–і –°—Г–љ–ґ–∞¬ї –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї –≤ —З–∞—Б—В–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –¶. –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—В 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥., –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Р. –Є –Ґ., –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –¶. –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ—Г—В–µ–Љ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤ –≤ –Х–У–†–Э –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞, –і–µ–ї–Њ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є
—З–∞—Б—В–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 26-–Ъ–У24-8-–Ъ5
2. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 222 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г.
–Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –С. –Њ —Б–љ–Њ—Б–µ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї—Г –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М вИТ –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, –≤–Є–і —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П вИТ –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –±–µ–Ј —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є –Є–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є.
–Ш—Б—В–µ—Ж –њ—А–Њ—Б–Є–ї —Б—Г–і –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Њ–є, –љ–∞ –С. –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–љ–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞ —Б–≤–Њ–є —Б—З–µ—В, –∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М —Б –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ—Г—О –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї—Г.
–°—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –і–µ–ї–∞, –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ–∞—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ- —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞. –Ш–Ј –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–Њ—З–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ —Б–µ–є—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е, —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –°—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ—Л —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ—Л.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ –Є—Б–Ї–µ, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ —Б–µ–є—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е, —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–є –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М —Д–Њ—В–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–і–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ–Љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±—К–µ–Ї—В.
–° –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–Є–ї–µ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 263 –У–Ъ –†–§ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –љ–µ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –Є—Е
–њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г –Є–ї–Є —Б–љ–Њ—Б, —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ –ї–Є—Ж–∞–Љ. –≠—В–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ (–њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 260 –У–Ъ –†–§).
–°—В–∞—В—М–µ–є 42 –Ч–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Є –ї–Є—Ж–∞, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л: –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Є—Е —Ж–µ–ї–µ–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В—М –≤—А–µ–і –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—К–µ–Ї—В—Г; —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ-–≥–Є–≥–Є–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї, –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–Њ–≤.
–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 222 –У–Ъ –†–§ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є: –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ, –љ–µ –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–ї—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ; —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–є; –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 51 –У—А–Ъ –†–§ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ–є.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —З–∞—Б—В–Є 17 —Б—В–∞—В—М–Є 51 –У—А–Ъ –†–§ –≤—Л–і–∞—З–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —Б—Д–µ—А–µ —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О —Б–±–Њ—А–Ї—Г –±–µ–Ј —Г—Й–µ—А–±–∞, –∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 55, —З–∞—Б—В–µ–є 2, 3 —Б—В–∞—В—М–Є 67, —Б—В–∞—В—М–Є 79, —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 86 –У–Я–Ъ –†–§ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ –µ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–Љ, –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ, –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј—П—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Є –Є—Е —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ-—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –Є –Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Н—В–Њ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —Б—Г–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —В—А–µ–±—Г—О—Й–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–є –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –љ–∞—Г–Ї–Є.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —Б–њ–Њ—А–∞, –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–Є–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Є –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А—Г—П —Б–≤–Њ–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–µ –∞–Ї—В–∞ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є вИТ —Д–Њ—В–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–є.
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –љ–Є –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ –Є—Б—В—Ж—Г –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –±—Л –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –±—Л –µ–≥–Њ —Б–љ–Њ—Б –Є–ї–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –Є –≤–Є–і—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ, —З—В–Њ –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 18-–Ъ–У25-195-–Ъ4
3. –†–∞–Ј–і–µ–ї –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Є–і–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –±–µ–Ј –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ.
–Ф–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –Є—Е –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П.
–Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї —А—П–і—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї –Ч., –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–є —Г—З–µ—В, —Б–љ—П—В–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Є –Њ–± –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 112 –Ч–Ъ –†–§, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2015 –≥. вДЦ 921 ¬Ђ–Ю–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ¬ї, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–µ –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ–Њ –Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ, –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –≤ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–µ–є –Є –≤–Є–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї, –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ 57 –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–є —Г—З–µ—В –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є 42 –У—А–Ъ –†–§ –±–µ–Ј —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є (–њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є (–њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є—П) —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, —Г–ї–Є—З–љ–Њ-–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б–µ—В–Є, –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –ї–Є–љ–Є–є –Є —В.–і.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°—В–∞—В—М–µ–є 7 –Ч–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —А–µ–ґ–Є–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Є—Е –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –Њ–±—Й–Є–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤.
–Т–Є–і—Л —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л (–њ—Г–љ–Ї—В 1 —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В—М 2 —Б—В–∞—В—М–Є 37 –У—А–Ъ –†–§).
–У—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В –≤ —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–Ъ –†–§ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї–µ–љ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –Є –∞—А–µ–љ–і–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —Д–Њ—А–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 8 —Б—В–∞—В—М–Є 1 –Є –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 30 –У—А–Ъ –†–§ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ–Є –∞–Ї—В–∞–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П
—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–Њ–љ—Л, –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Л, –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 77 –Ч–Ъ –†–§ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –љ—Г–ґ–і —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є.
–Э–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є —Б—В–∞—В–µ–є 78, 79 –Ч–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г–≥–Њ–і–Є–є.
–Я—Г–љ–Ї—В 1 —Б—В–∞—В—М–Є 83 –Ч–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–µ –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 —Б—В–∞—В—М–Є 114 –Ч–Ъ –†–§ –њ—А–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Г –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≤—Б–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є.
–¶–µ–ї–µ–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є, –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В—Б—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 3 —Б—В–∞—В—М–Є 112 –Ч–Ъ –†–§).
–Ш–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј –Х–У–†–Э —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П¬ї —Б –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–і–ї—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї.
–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ 57 –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є –≤–Є–і–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–µ–є 1 –Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 41 –У—А–Ъ –†–§ —Б—Г–і–∞–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—Б—В–∞—В—М—П 78 –Ч–Ъ –†–§).
–Я—А–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З—В–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П —Ж–µ–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –Є—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤–Є–і–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е
—Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –і–∞—З–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ч. –≤ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Г—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є.
–Я—А–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–µ–є 1вИТ5 —Б—В–∞—В—М–Є 41 –У—А–Ъ –†–§ –Є –°–Я 53.13330.2011 ¬Ђ–°–Э–Є–Я 30-02-97*. –Я–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е (–і–∞—З–љ—Л—Е) –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –Ј–і–∞–љ–Є—П –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї (—Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ—А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2010 –≥. вДЦ 849 –Є –≤–≤–µ–і–µ–љ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ 20 –Љ–∞—П 2011 –≥.), —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–∞—З–љ—Л—Е –Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –њ—А–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –љ–Є—Е –Ј–і–∞–љ–Є–є –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –љ–µ —Г—З—В–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 41 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –Є—О–ї—П 2017 –≥. вДЦ 217-–§–Ч
¬Ђ–Ю –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і –Є –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Е–Њ–і—П—В —Б–∞–і–Њ–≤—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Є–ї–Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤. –Ь–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–њ—Г–љ–Ї—В—Л 1, 2, 3).
–Я—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —З–∞—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Є–і —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї, –∞ —З–∞—Б—В—М вИТ ¬Ђ–і–ї—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї, —З—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–њ—Г–љ–Ї—В 1 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞).
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 10 —Б—В–∞—В—М–Є 35 –Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 36 –У—А–Ъ –†–§ –Ј–Њ–љ—Л —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–Њ–љ—Л, –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞; –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж —Н—В–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≥—А–∞–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–Њ–љ—Л, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤.
–Ш–Ј –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–µ–≤—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –њ—Г—В–µ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –±—Л–ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ—А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2015 –≥. вДЦ 921 ¬Ђ–Ю–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ¬ї, –њ—А–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є –≤–Є–і —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –≤ –Љ–µ–ґ–µ–≤—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П¬ї –Є –≤–Є–і–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–і–ї—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї, —В–Њ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–µ–≤—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 22 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 2015 –≥. вДЦ 218-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Є –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ –Њ—В 14 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥.
вДЦ –Я/0592 ¬Ђ–Ю–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ¬ї –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–є –њ–ї–∞–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є–ї–Є –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –Х–У–†–Э –Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –Є –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Х–У–†–Э, –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е, –ї–Є–±–Њ –Њ —З–∞—Б—В–Є –Є–ї–Є —З–∞—Б—В—П—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –ї–Є–±–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –Х–У–†–Э —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –Є–ї–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤–Њ–є –Є –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –љ–µ –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л, –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 18-–Ъ–У25-61-–Ъ4
4. –Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–≥–Њ –і–Њ –і–∞—В—Л –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥. вДЦ 122-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї —Б –љ–Є–Љ¬ї, –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Ц. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ы. (–Њ—В—Ж–∞ –Є—Б—В—Ж–∞), –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М
вИТ –Ј–µ–Љ–ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вИТ –і–ї—П —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є—Б—В–µ—Ж —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –≤ 1997 –≥–Њ–і—Г —Г–Љ–µ—А –µ–µ –Њ—В–µ—Ж вИТ –Ы. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ы. –Ї–∞–Ї —З–ї–µ–љ—Г —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б–∞–і–Њ–≤—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –і–ї—П –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —З–ї–µ–љ–∞–Љ —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї –Ы. –Ф–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ы. –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї —Б —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є (–Љ–∞—В–µ—А—М—О –Є—Б—В—Ж–∞), —Г–Љ–µ—А—И–µ–є –≤ 2010 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ы. –Є—Б—В–µ—Ж —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ: —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤–µ—Й–Є, –љ–µ—Б–ї–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –њ–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—О –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞–Љ –Ј–∞ –і–Њ–Љ, –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞ —З–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Ј–љ–Њ—Б—Л –≤ —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–Њ (–ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ 2020 –≥–Њ–і—Г), –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї. –Ъ –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б—Г —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П. –Ш–љ—Л—Е –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–µ –Є–Ј –Х–У–†–Э –Њ—В 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В. –Ь–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Є—Б—В–µ—Ж –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї: –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ, –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–Є, —Б–∞–ґ–∞–ї–∞ –Њ–≤–Њ—Й–Є, –Ј–µ–ї–µ–љ—М, –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–∞ —З–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –≤–Ј–љ–Њ—Б—Л, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є (–∞–Ї—В–∞–Љ–Є, —З–µ–Ї–∞–Љ–Є, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ–Є). –Ш–љ—Л—Е –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—В –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ, –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ.
–°—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, –њ–Њ –і–µ–ї—Г –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 1181 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—О –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г—О—В—Б—П –љ–∞ –Њ–±—Й–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ.
–Т —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 6 –Ч–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–°–§–°–†, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ы. –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –Ј–µ–Љ–ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –°–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–µ–є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–°–§–°–† –Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –†–°–§–°–†.
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 25 –Ч–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є, –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥.
вДЦ 122-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї —Б –љ–Є–Љ¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥. вДЦ 122-–§–Ч).
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ –≤ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З–µ–ї, —З—В–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 8 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 30 –љ–Њ—П–±—А—П 1994 –≥. вДЦ 52-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї —Б –љ–Є–Љ.
31 —П–љ–≤–∞—А—П 1998 –≥. –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Б–Є–ї—Г –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥.
вДЦ 122-–§–Ч, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –і–Њ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2017 –≥. вИТ –і–∞—В—Л –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 2015 –≥. вДЦ 218-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 2015 –≥.
вДЦ 218-–§–Ч), –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –і–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –Є—Е –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–µ–є.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 2015 –≥. вДЦ 218-–§–Ч —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –і–Њ –і–љ—П –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥. вДЦ 122-–§–Ч, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Х–У–†–Э. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤ –≤ –Х–У–†–Э –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –Є—Е –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–µ–є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –і–Њ 31 —П–љ–≤–∞—А—П 1998 –≥. вИТ –і–∞—В—Л –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥. вДЦ 122-–§–Ч, —В–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є, —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А–∞ –Њ—В 22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1993 –≥. вДЦ 95 ¬Ђ–Ю –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–∞–і–Њ–≤—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —З–ї–µ–љ–∞–Љ —Б–∞–і–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–Ъ—А–Є–љ–Є—Ж–∞¬ї –Я–µ—А–≤–Њ–Љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞
–≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А–∞¬ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ы. –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Г –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А –Њ—В 6 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥. —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ы. –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М.
–Ш–Ј —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –У–£–Я –Ъ–Ъ
¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А—Б–Ї–Є–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А¬ї 6 –Љ–∞—П 2006 –≥., —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ы. –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—О (—Б—В–∞—А–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞) –Њ—В 16 –Љ–∞—П 1993 –≥. вДЦ 477. –Ъ –Њ–њ–Є—Б–Є –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ —З–µ—А—В–µ–ґ –≥—А–∞–љ–Є—Ж —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–∞–Љ–Є.
–Ш—Б—В–µ—Ж –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ы. –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—Г–і—Л –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–є –≤ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–µ –Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–µ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є.
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 7 —Б—В–∞—В—М–Є 11 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–°–§–°–† –Њ—В 19 –Є—О–ї—П 1968 –≥. ¬Ђ–Ю –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ, —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –†–°–§–°–†¬ї (—Г—В—А–∞—В–Є–ї —Б–Є–ї—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –†–°–§–°–† –Њ—В 6 –Є—О–ї—П 1991 –≥.
вДЦ 1551-I ¬Ђ–Ю –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–°–§–°–† ¬Ђ–Ю –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –†–°–§–°–†¬ї) –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Г—З–µ—В–∞ –Є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є, —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –°–Њ–≤–µ—В –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –≤–µ–і–µ—В –њ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Є —Г—З–µ—В –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –≤—Л—И–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –°–°–°–† –њ–Њ —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є–Ї–µ –Њ—В
25 –Љ–∞—П 1990 –≥. вДЦ 69 –±—Л–ї–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є—О –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –°–Њ–≤–µ—В–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П), —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤ (–њ—Г–љ–Ї—В 1) –Є –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ –Є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –°–Њ–≤–µ—В–∞–Љ–Є –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ –њ—П—В—М –ї–µ—В –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П (–њ—Г–љ–Ї—В 6).
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ 18 –Є 38 –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –ґ–Є–ї—Л—Е –і–Њ–Љ–∞—Е, —П–≤–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤, –Є –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–Є–ї—Л—Е –і–Њ–Љ–∞—Е.
–Я–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Ї–∞–Ї —Г—З–µ—В–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ–і—Б–Њ–±–љ—Л—Е —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 8 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 7 –Є—О–ї—П 2003 –≥. вДЦ 112-–§–Ч ¬Ђ–Ю –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і—Б–Њ–±–љ–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ¬ї.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —З–Є—Б–ї—Г —В–µ—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–є –і–Њ–Љ, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –Х–У–†–Э, —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞–Љ–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Ы. –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ
–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 21 –Є—О–ї—П 1997 –≥. вДЦ 122-–§–Ч, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 18-–Ъ–У24-284-–Ъ4
5. –Я—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –≤—Л–±—Л—В–Є—П –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —Ж–µ–ї–µ–є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 302 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ) –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –Љ–µ—А –њ–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ.
–Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞) –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Ъ., –®. –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы. –љ–∞ –Ъ., –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–∞–≤–µ –Ъ. –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—О, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ъ. –Є –®., –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –®. –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Њ–± –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П, –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –®. –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Ї–∞–Ї –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ы., –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤—Л–±—Л–ї–Њ –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–і–µ–ї–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ъ. –Є –®. –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—В—М –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–љ—П—В—Л —Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1151 –У–Ъ –†–§ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—О, –ї–Є–±–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є–ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Є –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –Њ—В –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—Б—В–∞—В—М—П 1117), –ї–Є–±–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞, –ї–Є–±–Њ –≤—Б–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ (—Б—В–∞—В—М—П 1158), –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 1151 –У–Ъ –†–§ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ (–≤ —З–∞—Б—В–Є –Љ–µ–ґ—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є) –ї–Є–±–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є: –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ; –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Є–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞; –і–Њ–ї—П –≤ –њ—А–∞–≤–µ –Њ–±—Й–µ–є –і–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –∞–±–Ј–∞—Ж–∞—Е –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —В—А–µ—В—М–µ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Х—Б–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є вИТ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Є–ї–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ, –Њ–љ–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—В –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Г—З–µ—В–∞ –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ (–њ—Г–љ–Ї—В 3 —Б—В–∞—В—М–Є 1151 –У–Ъ –†–§).
–Ъ–∞–Ї –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Є –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–Њ–Љ, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–ї—П –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П (–∞–±–Ј–∞—Ж –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1152), –љ–∞ –љ–Є—Е –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ —Б—А–Њ–Ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ (—Б—В–∞—В—М—П 1154), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ—А–Љ—Л, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ (–њ—Г–љ–Ї—В—Л 1 –Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 1155); –њ—А–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П (–∞–±–Ј–∞—Ж –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1157); –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ –њ—А–∞–≤–µ –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤—Л–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ (–∞–±–Ј–∞—Ж —В—А–µ—В–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1162).
–Т —Б–Є–ї—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї—Г —Б–Њ –і–љ—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 4 —Б—В–∞—В—М–Є 1152 –У–Ъ –†–§), –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Њ –і–љ—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1151 –У–Ъ –†–§ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Г—З–µ—В —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В 22 –Є—О–ї—П 2008 –≥. вДЦ 639-–Я–Я ¬Ђ–Ю —А–∞–±–Њ—В–µ —Б –ґ–Є–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Є —Б –ґ–Є–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤—Л–±—Л—В–Є–µ–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ¬ї (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 4 –Є—О–љ—П 2013 –≥., –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є; –і–∞–ї–µ–µ вИТ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В 22 –Є—О–ї—П 2008 –≥. вДЦ 639-–Я–Я)
–њ—А–µ—Д–µ–Ї—В—Г—А–∞–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ј–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ–є –≤ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вИТ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є) —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є: –Њ–± —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П—Е, –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞—Е –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л; –Њ –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±–Њ–ї–µ–µ —И–µ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В; –Њ –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е, –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —И–µ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Є–ї–Є –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤ —Б—А–Њ–Ї –і–Њ 10 —З–Є—Б–ї–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞ –Њ—В—З–µ—В–љ—Л–Љ.
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3.2.1 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –њ—А–µ—Д–µ–Ї—В—Г—А–∞–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є —Г–њ—А–∞–≤–∞–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –≤ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤ —Б—А–Њ–Ї –і–Њ 10 —З–Є—Б–ї–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞ –Њ—В—З–µ—В–љ—Л–Љ.
–Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ—А–Њ–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–±–∞–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б–љ—П—В–Є–Є —Б —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ вИТ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤ –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –≤ —Б—А–Њ–Ї –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 10 –і–љ–µ–є —Б–Њ –і–љ—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ (–њ—Г–љ–Ї—В 4 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П).
–Я—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ 1 –Ї –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В 22 –Є—О–ї—П 2008 –≥. вДЦ 639-–Я–Я, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є 6-–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б—Г —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Ф–ї—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –≤ 20-–і–љ–µ–≤–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–∞–≤–µ –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–µ–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –≤–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є
–≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤ –†–µ–µ—Б—В—А –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2.5 —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Њ—В 6 –љ–Њ—П–±—А—П 2008 –≥. вДЦ 2763 ¬Ђ–Ю –Љ–µ—А–∞—Е –њ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В 22 –Є—О–ї—П 2008 –≥. вДЦ 639-–Я–Я¬ї –љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –≥. –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–∞—Е –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–±–Њ—А–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є —Г—З–µ—В–∞ –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤–≤–Є–і—Г —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –ґ–Є–ї—М—П.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –∞–Ї—В–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Ч–Р–У–° –Ы. –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –±—Л–ї —Б–љ—П—В —Б —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2010 –≥.
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Ї –®. —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2011 –≥.
–Э–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є 1 –≥–Њ–і–∞ 4 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є—Б—В—Ж–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—В 22 –Є—О–ї—П 2008 –≥. вДЦ 639-–Я–Я –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М.
–С–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞, –љ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –Ї –µ–≥–Њ —Г—В—А–∞—В–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤—Л–±—Л—В–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —В—А–µ—В—М–Є—Е –ї–Є—Ж.
–Т —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 301 –У–Ъ –†–§ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П.
–£—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 302 –У–Ъ –†–§, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ—Б–ї–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Њ —Г –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—В—М, –Њ —З–µ–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–љ–∞—В—М (–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М), —В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г—В–µ—А—П–љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ, –ї–Є–±–Њ –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Њ —Г —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –ї–Є–±–Њ –≤—Л–±—Л–ї–Њ –Є–Ј –Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Є–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Є—Е –≤–Њ–ї–Є.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В 22 –Є—О–љ—П 2017 –≥. вДЦ 16-–Я
¬Ђ–Я–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 302 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Р.–Э. –Ф—Г–±–Њ–≤—Ж–∞¬ї1, –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ
1 –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В 26 –Љ–∞—П 2025 –≥. вДЦ 22-–Я ¬Ђ–Я–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 302 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є
—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Д–∞–Ї—В—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В—З—Г–ґ–і–∞—В—М, —В–∞–Ї –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П) –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є—П –њ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Є–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ) –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ, –≤—Л–±—Л–ї–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Є –Є–ї–Є –њ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ—А–Є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є —Г—З—В–µ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є.
–Я–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 5 —Б—В–∞—В—М–Є 10 –У–Ъ –†–§ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ.
–Ф–µ–ї–∞—П –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –®. –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Г—О –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Љ–Њ–≥ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–Њ—З–Є—П—Е –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —Б–і–µ–ї–Ї—Г, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З–µ–ї, —З—В–Њ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П —Г –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ- –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–≤ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–∞. –Я—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ. –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–Њ–Љ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –њ—А–∞–≤–µ –љ–∞ –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—О, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Х–У–†–Э –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Ъ. –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
–Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Њ–і–∞–ґ–µ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–µ –≤ —Б–µ—В–Є ¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В¬ї, –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–Њ–Љ, –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–Њ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ —Б—Г–і–∞. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –®. –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–њ—Г—Б—В—П 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В—М—Б—П —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–∞ –Њ–± –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ—В –µ–≥–Њ –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—П (–®.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Х–У–†–Э –Є –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –њ–Њ –Є—Б–Ї—Г –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ
–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–Є –Ґ.–Т. –Я–∞–љ–Ї—А–∞—В–Њ–≤–Њ–є¬ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —А–∞–љ–µ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О.
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –љ–∞–і –≤—Л–Љ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—А –њ–Њ –µ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Н—В–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ —Б—Г–і —Б –≤–Є–љ–і–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—В–µ—Ж –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 27 –љ–Њ—П–±—А—П 2019 –≥., —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–њ—Г—Б—В—П 8 –ї–µ—В 1 –Љ–µ—Б—П—Ж –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є, –Є —Б —В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –Є—Б–Ї—Г –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В–µ—Ж –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є—Б–Ї –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї –Ъ., –®. –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 5-–Ъ–У24-43-–Ъ2
–Ч–∞—Й–Є—В–∞ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥
6. –Х—Б–ї–Є –Ј–∞–µ–Љ–љ–∞—П —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –≤—Л–і–∞–љ–∞ –≤ —Б—З–µ—В –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О —Г—Й–µ—А–±–∞ (–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є—П –і–Њ–ї–≥–∞), —В–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞–є–Љ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ–Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ —Б—З–µ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–∞–љ–∞ –Ј–∞–µ–Љ–љ–∞—П —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞.
–ѓ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –¶. –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ј–∞–є–Љ–∞, –њ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤.
–¶. –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є–ї –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–є –Є—Б–Ї –Ї –ѓ. –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ј–∞–є–Љ–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.
–І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї –ѓ., —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 309, 310, 421, 431, 807, 808, 810, 812 –У–Ъ –†–§ –Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Г –¶. –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ј–∞–є–Љ–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –і–µ–ї–∞.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞, —Б—Г–і —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –¶. –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–є–Љ–∞ –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–≤–Њ–є —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Б–Є–ї–Є—П –Є–ї–Є —Г–≥—А–Њ–Ј—Л.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞ –ѓ., —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–є –Є—Б–Ї –¶., –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ѓ. –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–µ –¶. –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї, –∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї—Г –¶. –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –ѓ. –≤ —Б–≤—П–Ј–Є
—Б –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –¶. –≤ –љ–µ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П, –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї—И–µ–Љ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–∞–љ–Є–µ –Є –≥–Є–±–µ–ї—М.
–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 807 –У–Ъ –†–§ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ј–∞–є–Љ–∞ –Њ–і–љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ (–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–∞–≤–µ—Ж) –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –Є–ї–Є –Њ–±—П–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ (–Ј–∞–µ–Љ—Й–Є–Ї—Г) –і–µ–љ—М–≥–Є, –≤–µ—Й–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –Є–ї–Є —Ж–µ–љ–љ—Л–µ –±—Г–Љ–∞–≥–Є, –∞ –Ј–∞–µ–Љ—Й–Є–Ї –Њ–±—П–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–∞–≤—Ж—Г —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —Б—Г–Љ–Љ—Г –і–µ–љ–µ–≥ (—Б—Г–Љ–Љ—Г –Ј–∞–є–Љ–∞) –Є–ї–Є —А–∞–≤–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –≤–µ—Й–µ–є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —А–Њ–і–∞ –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –ї–Є–±–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ —Ж–µ–љ–љ—Л—Е –±—Г–Љ–∞–≥.
–Х—Б–ї–Є –Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–∞–≤—Ж–µ–Љ –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –Ј–∞–є–Љ–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —Б—Г–Љ–Љ—Л –Ј–∞–є–Љ–∞ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ј–∞–є–Љ–∞ –Ј–∞–µ–Љ—Й–Є–Ї—Г –Є–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ –ї–Є—Ж—Г.
–Т –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ј–∞–є–Љ–∞ –Є –µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ј–∞–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А—П—О—Й–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –µ–Љ—Г –Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–∞–≤—Ж–µ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л –Є–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤–µ—Й–µ–є (–њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 808 –У–Ъ –†–§).
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 818 –У–Ъ –†–§ –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ –і–Њ–ї–≥, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–є –Є–Ј –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є, –∞—А–µ–љ–і—Л –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ –Ј–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 —Н—В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–∞—В—М–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–≥–∞ –Ј–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Є (—Б—В–∞—В—М—П 414) –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ј–∞–є–Љ–∞ (—Б—В–∞—В—М—П 808).
–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 24 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 11 –Є—О–љ—П 2020 –≥. вДЦ 6 ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤¬ї, –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ –і–Њ–ї–≥, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–є –Є–Ј –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є, –∞—А–µ–љ–і—Л –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –љ–µ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–і–µ–ї–Ї–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ –Ј–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ (–њ—Г–љ–Ї—В 1 —Б—В–∞—В—М–Є 818 –У–Ъ –†–§).
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 1064 –У–Ъ –†–§ –≤—А–µ–і, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—А–µ–і, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–≤—И–Є–Љ –≤—А–µ–і. –Ы–Є—Ж–Њ, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–≤—И–µ–µ –≤—А–µ–і, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–∞, –µ—Б–ї–Є –і–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В, —З—В–Њ –≤—А–µ–і –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ –љ–µ –њ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Є–љ–µ.
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–∞—П —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ѓ. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –¶. —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ –°–Ґ–Ю. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤ –і–∞–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В,
—Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞–є–Љ–∞ –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —Б—Г–Љ–Љ–∞ –Ј–∞–є–Љ–∞ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 818 –У–Ъ –†–§, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–≥–∞ –≤ –Ј–∞–µ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –і–Њ–ї–≥, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–є —А–∞–љ–µ–µ —Г –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ –Є–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —Б—Г–Љ–Љ—Л –Ј–∞–є–Љ–∞ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В.
–Ґ–∞–Ї, –≤ –∞–±–Ј–∞—Ж–µ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 24 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 11 –Є—О–љ—П 2020 –≥. вДЦ 6 –њ—А—П–Љ–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Ј–∞–µ–Љ–љ–Њ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–µ–њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Ј–∞–є–Љ–∞ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞.
–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г—З—В–µ–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б–њ–Њ—А–∞.
–Э–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–≥–∞ –≤ –Ј–∞–µ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤—Г –±–µ–Ј–і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ –љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Њ–Ї, —В–∞–Ї –Є —В–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –Ј–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Є–Љ –љ–µ –і–∞–љ–∞, –∞ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ. –Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–≤ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 41-–Ъ–У25-16-–Ъ4
7. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –±–∞–љ–Ї–Њ–Љ —Б –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ-–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ, —Б—Г–і—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –і–Њ–≤–Њ–і—Л –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П –Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ–њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥–µ.
–Ю–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ –Є –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П –њ—А–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤ –±–∞–љ–Ї –љ–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤–Ї–ї–∞–і–∞, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –±–∞–љ–Ї.
–Ф. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ —А–∞—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ ¬Ђ–§–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ—Е–Њ–і¬ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –µ—О —Б –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ
–Њ–±–Љ–∞–љ–∞ –Є –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –±–∞–љ–Ї–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –і–µ–њ–Њ–Ј–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–∞.
–°—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ 1 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. –Љ–µ–ґ–і—Г –Ф. –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ, –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –±–∞–љ–Ї–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ ¬Ђ–§–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ—Е–Њ–і¬ї, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ф. —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –њ—А–µ–Љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 2 000 000 —А—Г–±.
–°—А–Њ–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–Њ 18 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2028 –≥. –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ.
29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –Ф. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —А–∞—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
11 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –≤—Л–Ї—Г–њ–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В—Г –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, —З–µ–Љ —Б—Г–Љ–Љ–∞ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.
–Я—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –µ–≥–Њ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї –≤–≤–µ–ї –Є—Б—В—Ж–∞ –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Б–Ї—А—Л–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –≤–Ї–ї–∞–і–∞ —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞–≤–Ї–Њ–є, –∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б –≤—Л–њ–ї–∞—В–Њ–є –і–Њ—Е–Њ–і–∞.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Є—Б—В–µ—Ж –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–є –Є –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Ф. –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л —Б–і–µ–ї–Ї–Є.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 50 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 23 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 25 ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ I —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 23 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 25) —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–Ї–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –≤—Л–і–∞—З–∞ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –і–Њ–ї–≥–∞, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–∞—З–µ—В–µ, –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Б–і–µ–ї–Ї–Є).
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–і–µ–ї–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ (—Б—В–∞—В—М—П 168 –У–Ъ –†–§), —В–∞–Ї –Є –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≤–Њ–ї–Є –њ—А–Є –µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –Њ–±–Љ–∞–љ–∞ (—Б—В–∞—В—М—П 178, –њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 179 –У–Ъ –†–§).
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є —Б–і–µ–ї–Ї–∞ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 10 –У–Ъ –†–§ –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–∞ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤, –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –і–µ–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П —Б–і–µ–ї–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 10 –Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 –Є–ї–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 168 –У–Ъ –†–§. –Я—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–∞—П —Б–і–µ–ї–Ї–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О (–њ—Г–љ–Ї—В—Л 7 –Є 8 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 23 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 25).
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 307 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –і–ї—П –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Ж–µ–ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 1 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 23 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 25 —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ, –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ї–∞–Ї –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Є–ї–Є –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є.
–Т —Б—В–∞—В—М–µ 8 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1992 –≥. вДЦ 2300-I
¬Ђ–Ю –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є) –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П –љ–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ–± –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ (–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ, –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–µ) –Є –Њ —В–Њ–≤–∞—А–∞—Е (—А–∞–±–Њ—В–∞—Е, —Г—Б–ї—Г–≥–∞—Е).
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 10 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М (–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М, –њ—А–Њ–і–∞–≤–µ—Ж) –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —В–Њ–≤–∞—А–∞—Е (—А–∞–±–Њ—В–∞—Е, —Г—Б–ї—Г–≥–∞—Е), –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 12 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—О –љ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —В–Њ–≤–∞—А–µ (—А–∞–±–Њ—В–µ, —Г—Б–ї—Г–≥–µ), –Њ–љ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ (–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П) –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –∞ –µ—Б–ї–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ, –≤ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞ —В–Њ–≤–∞—А —Б—Г–Љ–Љ—Л –Є –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤.
–Т —Б–Є–ї—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —Б—В–∞—В—М–Є 13, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 5 —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 6 —Б—В–∞—В—М–Є 28 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –±—А–µ–Љ—П –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –Њ—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –ї–Є–±–Њ –љ–µ–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ (–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ, –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–µ).
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –і–∞–љ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ –Є—Б—В—Ж–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±–∞–љ–Ї –і–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–∞, –∞ –љ–µ –≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О –і–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ —Б –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –±–∞–љ–Ї–∞, –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е —Н—В–Њ–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є. –Т –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –Ф. —Б—Б—Л–ї–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В —Б –±–∞–љ–Ї–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–∞
–њ–Њ–і –±–Њ–ї—М—И–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В, –∞ –љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є—Б—В–µ—Ж —Б—Б—Л–ї–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Ј—А–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–Љ–±—Г–ї–∞—В–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ–є, –Є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є —Б —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –±–∞–љ–Ї–∞.
–Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ –Њ—И–Є–±–Ї—Г, –Є—Б—В–µ—Ж –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –±–∞–љ–Ї –Ј–∞ —А–∞—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ –µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–µ—А–љ—Г—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 696 000 —А—Г–±. –≤–Љ–µ—Б—В–Њ 2 000 000 —А—Г–±., –∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –і–Њ 2028 –≥–Њ–і–∞.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ –љ–µ–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–µ —Г—З–µ–ї, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ-–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В 3 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥. вДЦ 14-–Я, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–є—Б—П –њ—А–Њ–і–∞–ґ–∞–Љ–Є, —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ, –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—В—А–∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є) –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –љ–∞–≤—Л–Ї–∞–Љ–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П —Б —Ж–µ–ї—М—О —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–≤–∞—А–∞ –љ–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л—Е –і–ї—П —Б–µ–±—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –ї–Є—И–µ–љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–Њ–Љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –∞ –і–∞–ґ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤ –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є вИТ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ—О —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М –Њ–±–Њ—И–µ–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –≤ –µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ (—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г) –љ–∞–і –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –£ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П –ґ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ —Е–Њ–і–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ–і–∞–≤–µ—Ж –µ–≥–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –і–∞–ґ–µ –≤—Л—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–і–∞ –њ–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –±—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П –Ї –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –і–∞—В—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–∞.
–Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ, –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 73-–Ъ–У25-1-–Ъ8
8. –°—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–≤—И–∞—П —Б –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П COVID-19 –±–µ–Ј –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є, –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ COVID-19 –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ.
–Х. –Є –Ь., –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –†., –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ь. –Є –†. —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Є —И—В—А–∞—Д–∞.
–°—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2020 –≥. –Љ–µ–ґ–і—Г –Э. (—Б—Л–љ–Њ–Љ –Х., —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ –Ь.) –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є (–Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ) –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є ¬Ђ–Р–љ—В–Є–≤–Є—А—Г—Б. –°–µ–Љ—М—П –њ–Њ–і –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є¬ї. –°—А–Њ–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ вИТ —Б 18 –љ–Њ—П–±—А—П 2020 –≥. –њ–Њ 17 –љ–Њ—П–±—А—П 2021 –≥.
–°—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є —А–Є—Б–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–Љ–µ—А—В—М –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є (–њ–Њ–і –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Є—А—Г—Б–љ–Њ–є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞–≤–Є—А—Г—Б–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П COVID-19) –Є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П (—Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–∞—П –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П) –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–Њ–є –ґ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є.
–Т–љ–Є–Ј—Г –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –£—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ 1 –Ї –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г) –Є –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є –Њ—В 25 –Є—О–љ—П 2019 –≥.
14 –љ–Њ—П–±—А—П 2021 –≥. –Э. —Г–Љ–µ—А. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ—Б—В—А–∞—П —А–µ—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–љ–∞—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, –і—А—Г–≥–∞—П –≤–Є—А—Г—Б–љ–∞—П –њ–љ–µ–≤–Љ–Њ–љ–Є—П, –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞–≤–Є—А—Г—Б–љ–∞—П –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є—П, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П COVID-19.
22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2022 –≥. –Ь. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤–≤–Є–і—Г –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Г –Э. —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2.2.1.1 –£—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 2.2.1.1 –£—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–ї—Г—З–∞—П–Љ–Є –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –ї–Є—Ж–∞ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ –≥—А—Г–њ–њ–µ —А–Є—Б–Ї–∞ –њ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞–≤–Є—А—Г—Б–љ–Њ–є –Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є–µ–є COVID-19 –Є –Є–Љ–µ—О—В –Њ–і–Є–љ –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–Њ–≤ –њ—А–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В–µ—Б—В–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞–≤–Є—А—Г—Б–љ—Г—О
–Є–љ—Д–µ–Ї—Ж–Є—О COVID-19: –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є–µ, –і–Є–∞–±–µ—В 1 –Є 2 —В–Є–њ–∞, –≥–Є–њ–µ—А—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М
2 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –≤—Л—И–µ, –±—А–Њ–љ—Е–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –∞—Б—В–Љ–∞, –Њ–љ–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ/–∞—Г—В–Њ–Є–Љ–Љ—Г–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –ї–Є—Ж–∞, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—И–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–ї–∞–љ—В–∞—Ж–Є—О –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –∞–Њ—А—В–Њ-–Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–µ —И—Г–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –ї–Є—Ж–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –≤—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Є–ї–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –ї–Є—Ж–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ—Л–µ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–≥–Њ—З–љ–Њ–є, –Є/–Є–ї–Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–є, –Є/–Є–ї–Є –њ–Њ—З–µ—З–љ–Њ–є, –Є/–Є–ї–Є –њ–µ—З–µ–љ–Њ—З–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О (–њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В 3).
–Я—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—П –Є—Б—В—Ж–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–∞—Е —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥–Є–њ–µ—А—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М 2 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –≤—Л—И–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2.2.1.1 –£—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї–Є –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Г –Э. –і–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ.
–° –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б—Г–і—Л –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—П –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 2, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 3, —Б—В–∞—В—М–Є 9 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 27 –љ–Њ—П–±—А—П 1992 –≥. вДЦ 4015-I
¬Ђ–Ю–± –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 4 —Б—В–∞—В—М–Є 421, —Б—В–∞—В—М–µ–є 431, –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 942, –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 943 –У–Ъ –†–§, —Б—В–∞—В—М–µ–є 10 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1992 –≥. вДЦ 2300-I ¬Ђ–Ю –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є¬ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е 43, 45 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2018 –≥. вДЦ 49 ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Є —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞¬ї –Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Ж–µ–ї–Є –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П, –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ-–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤—Л–≥–Њ–і–Њ–њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–∞–≤–Њ–њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –і–ї—П —Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 15 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –Є—О–љ—П 2024 –≥. вДЦ 19
¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —Б—В–∞—В—М–Є 421 –У–Ъ –†–§ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Ї —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 942 –У–Ъ –†–§ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П (–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞; –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є
(–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞; —Г–≥–Њ–љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ —А–Є—Б–Ї–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї—А–∞–ґ–∞ –Є–ї–Є —Г–≥–Њ–љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є (–Є–ї–Є) –Ї–ї—О—З–µ–є).
–°—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–њ—А–∞–≤–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ (—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—Б) –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ, —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –њ—А–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —Г—Й–µ–Љ–ї—П—О—В –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П (—Б—В–∞—В—М—П 16 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є).
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 16 —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –њ—А–Є –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–Њ–ї–Є—Б–µ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–±—Й—Г—О –≤–Њ–ї—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ї–Њ–љ—В—А–∞–≥–µ–љ—В–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –ї–Є–±–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П (—З–∞—Б—В—М 2 —Б—В–∞—В—М–Є 431 –У–Ъ –†–§).
–Я–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –Ї–∞–Ї –ї–Є—Ж–Њ, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ.
–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г —Г—З—В–µ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є.
–Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —П—Б–љ–Њ –Є –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є, —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–µ —А–Є—Б–Ї–Є –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ:
1) —Б–Љ–µ—А—В—М –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є (–њ–Њ–і –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М—О –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–Є–∞–≥–љ–Њ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Є—А—Г—Б–љ–Њ–є —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞–≤–Є—А—Г—Б–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П COVID-19);
2) –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П (—Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–∞—П –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П) –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–Њ–є –ґ–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2.2.1.1 –£—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є –ґ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–ї—Г—З–∞—П–Љ–Є –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ —А—П–і–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є.
–Ф–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—О —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –љ–µ –і–∞–ї–Є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є–Ј –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –£—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–µ –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –Њ–±—Й–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ–Љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ-–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–Љ.
–Ф–ї—П —Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 11 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –Є—О–љ—П 2024 –≥. вДЦ 19 —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 940 –У–Ъ –†–§, –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, —В–Њ –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В –Њ—В–і–∞–µ—В—Б—П —В–µ–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ—Л —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ (–њ—Г–љ–Ї—В 3 —Б—В–∞—В—М–Є 943 –У–Ъ –†–§).
–≠—В–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П–Љ–Є —Г—З—В–µ–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Њ –љ–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є–Ј —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2.2.1.1 –£—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б–ї–∞–ї–Є—Б—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –Є —Б—Г–і—Л, –њ–Њ –Є—Е —Б–Љ—Л—Б–ї—Г —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П, –љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П –Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В —А–∞–Ј–Љ–µ—А –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤.
–£—З–µ—В —В–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Г–Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –Њ –љ–Є—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± —Н—В–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Г—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 944 –У–Ъ –†–§.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П—Е –≤ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–Є—Б–Ї–∞, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б—В–∞—В—М–µ–є 959 –У–Ъ –†–§.
–Ш–Ј —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Г –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2.2.1.1 –£—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —Г–Љ–Њ–ї—З–∞–ї –Њ–± —Н—В–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Є–ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ –љ–Є—Е –ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –Э. –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –њ—А–µ–Љ–Є—О –њ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–∞—А–Є—Д—Г.
–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—Г–і–∞–Љ–Є —Г—З—В–µ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 89-–Ъ–У24-15-–Ъ7
9. –Я—А–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г, —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л
–њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Є —И—В—А–∞—Д–∞, —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В.
–°. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–µ—Г—Б—В–Њ–µ–Ї, —И—В—А–∞—Д–∞, —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Г —Г—Б–ї—Г–≥ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞, —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є, –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л—Е —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞.
–Ъ–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ-—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ф–Ґ–Я), –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ 14 –Є—О–ї—П 2023 –≥. –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –§., –±—Л–ї –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –Є—Б—В—Ж—Г –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М.
–У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б—В—Ж–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ф–Ґ–Я –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є (–Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї).
19 –Є—О–ї—П 2023 –≥. –°. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї—Г —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—А–∞–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Г –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–є.
–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї 3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥. –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є–ї –Є—Б—В—Ж—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 78 479,50 —А—Г–±., –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞ –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є.
10 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥. –Є—Б—В–µ—Ж –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї—Г —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ (–њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–µ–є) –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є, —Г—В—А–∞—В—Л —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –£–Ґ–°) –Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –°. –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –£–Ґ–°, —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є, –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Є —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Г —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П.
–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ —Г–±—Л—В–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Ј–∞ –≤—Л—З–µ—В–Њ–Љ –≤—Л–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ. –Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —И—В—А–∞—Д –љ–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Г —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В.
–° —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –љ–Є–ґ–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В, —З—В–Њ —Б –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л–Љ–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–§–∞–Ї—В –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Њ—В —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ —Б—Г–і–∞–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 21 —Б—В–∞—В—М–Є 12 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 25 –∞–њ—А–µ–ї—П 2002 –≥.
вДЦ 40-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю) –њ—А–Є –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Є–ї–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –≤—Л–і–∞—З–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—А–Њ—З–Ї–Є —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї—Г (–њ–µ–љ—О) –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 1 % –Њ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≤–Є–і—Г –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г.
–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 76 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31 ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–± –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31), –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–∞ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Є–ї–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –≤—Л–і–∞—З–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 1 %, –∞ –Ј–∞ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 0,5 % –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –Ј–∞ –≤—Л—З–µ—В–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤ —Б—А–Њ–Ї–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–µ–є 12 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю (–∞–±–Ј–∞—Ж –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 21 —Б—В–∞—В—М–Є 12 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю).
–Э–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–∞ –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ –і–љ—П, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞ –і–љ–µ–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б 21-–≥–Њ –і–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є, –Є –і–Њ –і–љ—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 3 —Б—В–∞—В—М–Є 161 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю –њ—А–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ вИТ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Њ–± –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л —Б—Г–і –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–µ—В —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 % –Њ—В —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–і–Њ–Љ, –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –∞–±–Ј–∞—Ж–∞—Е –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —В—А–µ—В—М–µ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 81, –њ—Г–љ–Ї—В–µ 83 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31, –њ—А–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ вИТ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞
—Б—Г–і –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ —И—В—А–∞—Д–∞ –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і—Г (–њ—Г–љ–Ї—В 3 —Б—В–∞—В—М–Є 16 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю). –Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Њ, —В–Њ —Б—Г–і –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —Б—В–∞–≤–Є—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞ –љ–∞ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ (—З–∞—Б—В—М 2 —Б—В–∞—В—М–Є 56 –У–Я–Ъ –†–§).
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 82 —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –µ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г вИТ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–∞ –≤ —Б—Г–і–µ, –љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Њ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л —И—В—А–∞—Д–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 16 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю.
–Ш–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–∞ –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А —И—В—А–∞—Д–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 161 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Њ–љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л —И—В—А–∞—Д–∞.
–Ш–љ–Њ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—Л, —З—В–Њ –≤ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–µ, –њ—А–∞–≤–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ—Л –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–Љ–Є, –њ—А–∞–≤–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Њ –љ–µ–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ вИТ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 56 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Є —И—В—А–∞—Д–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ вАУ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї.
–Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 151 —Б—В–∞—В—М–Є 12 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ (–≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–і–∞ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ), –Є –љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—О—В –Њ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Є —И—В—А–∞—Д–∞, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О –Њ—В —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ–Љ–Њ–є
–њ–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–µ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 4 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. вДЦ 755-–Я ¬Ђ–Ю –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞¬ї –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Я–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞—П—Б—М —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Њ—В –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Є —И—В—А–∞—Д–∞.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–≤ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 1-–Ъ–У25-3-–Ъ3
10. –Я—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–∞–≤–Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤–њ—А–∞–≤–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г.
–Ґ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ 5 –Є—О–љ—П 2021 –≥. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ-—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –Я., —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–Љ Chevrolet Aveo, –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –Є—Б—В—Ж–∞.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ (–Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї), –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ґ. –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ю–°–Р–У–Ю), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –µ–µ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ъ–Р–°–Ъ–Ю), –≤—Л–і–∞–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –°–Ґ–Ю–Р), –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –љ–µ –±—Л–ї.
–Ш—Б—В–µ—Ж –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї—Г —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –Є–ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю.
–Ю—В–≤–µ—В—З–Є–Ї –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є–ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 271 100 —А—Г–±. –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ъ–Р–°–Ъ–Ю –Є –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї —Г—В—А–∞—В—Г —В–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 46 500 —А—Г–±.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Њ—В–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю, –Ґ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –µ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї—Г —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї.
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –∞–≤—В–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л. –Я–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞, —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є, —Г–Ј–ї–Њ–≤ –Є –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б—А–µ–і–љ–Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–љ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ф–Ґ–Я —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 924 800 —А—Г–±. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–Њ–є –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 538 300 —А—Г–±., —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ вИТ 447 100 —А—Г–±.
–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Б—В—Ж–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –°–Ґ–Ю–Р, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї, –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–≤ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Г—О –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В –љ–∞ –°–Ґ–Ю–Р –ї–Є–±–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В–Њ–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –ї–Є–Љ–Є—В–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю вИТ 400 000 —А—Г–±. –Є –Ј–∞ –≤—Л—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 317 600 —А—Г–±. –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ 82 400 —А—Г–±., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —И—В—А–∞—Д –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 % –Њ—В —Н—В–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л вИТ 41 200 —А—Г–±. –Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ вИТ 1000 —А—Г–±.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б—А–µ–і–љ–Є—Е —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е —Ж–µ–љ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 924 800 —А—Г–±. (–±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞), —Б—Г–і –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —Б –Я. –Ї–∞–Ї —Б –њ—А–Є—З–Є–љ–Є—В–µ–ї—П –≤—А–µ–і–∞ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –Љ–µ–ґ–і—Г —Н—В–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ–Њ–є –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ (400 000 —А—Г–±.) –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 524 800 —А—Г–±.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ґ. –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ъ–Р–°–Ъ–Ю, –Ґ. –і–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ъ–Р–°–Ъ–Ю –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї—Г —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –Є—Б—В—Ж–∞ –і–Њ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 953 800 —А—Г–±., –∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ вИТ 924 800 —А—Г–±., —В–Њ –µ—Б—В—М 97 % –Њ—В —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –і–Њ–∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –Ј–∞ –≤—Л—З–µ—В–Њ–Љ –≥–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤
(578 900 —А—Г–±.) –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 374 900 —А—Г–±. (953 800 —А—Г–±. вИТ
578 900 —А—Г–±.).
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Л–њ–ї–∞—В –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 317 600 —А—Г–±. —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞, —Б–љ–Є–Ј–Є–≤ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Г –і–Њ 57 300 —А—Г–±. (374 900 —А—Г–±. вИТ 317 600 —А—Г–±.) –Є —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є–ї —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б—Г–Љ–Љ—Г —И—В—А–∞—Д–∞ –і–Њ 28 650 —А—Г–±.
–Я–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ–Њ–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А —Г—Й–µ—А–±–∞ –Є—Б—В—Ж—Г –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Є—Б–Ї–µ.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –≤–≤–Є–і—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 121 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–Љ—Г —Б—А–µ–і—Б—В–≤—Г, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ, —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –Є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 3 —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –С–∞–љ–Ї–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є:
–∞) –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, –Њ–њ–ї–∞—В—Г —А–∞–±–Њ—В, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Њ–Љ;
–±) –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Г—О—Й–Є—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є (–і–µ—В–∞–ї–µ–є, —Г–Ј–ї–Њ–≤, –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤), –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А—Г –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Г—О—Й–Є—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є (–і–µ—В–∞–ї–µ–є, —Г–Ј–ї–Њ–≤, –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤), –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ—Г–ї–µ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞;
–≤) –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1.1 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 19 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2014 –≥. вДЦ 432-–Я ¬Ђ–Ю –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞¬ї –і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В –µ–і–Є–љ—Г—О –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 41 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31 —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –њ–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞—П–Љ, –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 21 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2021 –≥., –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–Њ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є
–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 4 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. вДЦ 755-–Я.
–Я–Њ —А–∞–љ–µ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞—П–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–Њ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 19 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2014 –≥. вДЦ 432-–Я.
–Т –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–і—П –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї –µ–≥–Њ —А–∞—Б—З–µ—В –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ—А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е —Ж–µ–љ, –∞ –љ–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–Њ–є, —З—В–Њ –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є –Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 56 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31 –њ—А–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М. –Т–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Є—Е —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ —В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –±—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ (–њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 393 –У–Ъ –†–§).
–Я–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю–°–Р–У–Ю, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Њ–∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –Є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–≤ —А–∞—Б—З–µ—В —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П —В–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—И–Є–±–Ї–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–≤ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 35-–Ъ–У25-2-–Ъ2
11. –Я—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–є —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 4 –Є—О–љ—П 2018 –≥. вДЦ 123-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥¬ї —И—В—А–∞—Д –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –Є –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —Г–њ–ї–∞—В–Є—В—М –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г-–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—О, –∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М —А–µ–Љ–Њ–љ—В –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Т. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 150 650 —А—Г–±. –Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 10 000 —А—Г–±. –°—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ 28 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥.
–≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ф–Ґ–Я –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –У–Р–Ч-2790 –Ь. –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М Ford Focus, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Т.
–У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ь. –љ–∞ –і–∞—В—Г –Ф–Ґ–Я –Ј–∞—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, –Т. вИТ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.
1 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2021 –≥. –Т. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї—Г —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є (–Є–ї–Є) –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
9 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2021 –≥. —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–Є–ї–∞ –Т. –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В–Њ–≤.
24 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2021 –≥. –Т. –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—О –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞.
2 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–Є–ї–∞ –Т. –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б–Њ –°–Ґ–Ю–Р, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–∞—А–Ї–Є Ford Focus, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 7 –Љ–∞—П 2003 –≥. вДЦ 263, –Є –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–∞–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ї–≤–Є–Ј–Є—В—Л.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В 1 –∞–њ—А–µ–ї—П 2021 –≥. —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Т. –Ї —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ–± –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П Ford Focus –љ–∞ –°–Ґ–Ю–Р –≤ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—П.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 31 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2021 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В 1 –∞–њ—А–µ–ї—П 2021 –≥. –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П.
–°–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В 1 –∞–њ—А–µ–ї—П 2021 –≥. –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В.
13 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥. –Т. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В 14 —П–љ–≤–∞—А—П 2022 –≥. —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Т. –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞—В—М –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –°–Ґ–Ю–Р —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞.
–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —Б –љ–µ–µ —И—В—А–∞—Д –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 % –Њ—В 301 300 —А—Г–±. (—Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –Є–Ј–љ–Њ—Б–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–µ–є), —Г–Љ–µ–љ—М—И–Є–≤ –µ–≥–Њ –і–Њ 100 000 —А—Г–±. –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є 333 –У–Ъ –†–§.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 4 –Є—О–љ—П 2018 –≥. вДЦ 123-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ).
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤ —З–∞—Б—В–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞ –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Є—Б–Ї–µ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, —Б–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Г—Й–µ—А–± –≤ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –і–∞–љ–љ—Л–є —И—В—А–∞—Д –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В.
–° –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 330 –У–Ъ –†–§ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Њ–є (—И—В—А–∞—Д–Њ–Љ, –њ–µ–љ–µ–є) –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Г–њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Г –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –љ–µ–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–Њ—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Њ–± —Г–њ–ї–∞—В–µ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –µ–Љ—Г —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б—Г–і –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–µ—В —Б —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –µ—О –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 % —Б—Г–Љ–Љ—Л —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є
—Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 84 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 31, –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ —И—В—А–∞—Д–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –ї–Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –і–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б—Г–і.
–Х—Б–ї–Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–µ –≤ —Б–Є–ї—Г —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є –≤ —Б—А–Њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–∞—А—П–і—Г —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 16 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Ю–°–Р–У–Ю, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –Є —И—В—А–∞—Д, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–є —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ.
–Ш–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –њ–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О —Б—Г–і–Њ–Љ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –ї–Є –љ–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ–ї–∞—В–Є—В—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г-–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—О –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Љ—Г –Є–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Ґ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є —И—В—А–∞—Д –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–∞ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–µ —Г–њ–ї–∞—В—Л, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ –Є –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ.
–Х—Б–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —В–Њ —Б—Г–Љ–Љ–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞.
–Я—А–Є –Є–љ–Њ–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є, –Ј–∞—П–≤–ї—П—О—Й–Є–є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –±—Г–і–µ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–Љ, –Ј–∞—П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, —З—В–Њ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞–≤ –Є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є –Є—Е —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 86-–Ъ–У25-2-–Ъ2
–Ч–∞—Й–Є—В–∞ –љ–µ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤
12. –Э–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Г–і–∞–ї–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–Є –Є –≤–Є–і–µ–Њ—А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–µ –Є –µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤—Г —Г—В—А–∞—В—Л –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
–†. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї —А—П–і—Г —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –°–Ь–Ш) –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–µ—В–Є ¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В¬ї.
–°—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –°–Ь–Ш –≤ —Б–µ—В–Є
¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В¬ї —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –≤–Є–і–µ–Њ—Б—О–ґ–µ—В—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В–∞—В—М–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б—В—Ж–∞, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є –≤–Є–і–µ–Њ—Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–∞.
–Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є—Б—В—Ж–∞ –Ї –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –љ–µ–Љ –Є –Њ–± —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –Ї —В–µ–Љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б—О–ґ–µ—В–Њ–≤, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, —З—В–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 152 –У–Ъ –†–§ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Ф–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Ї —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г, –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤ —Б–µ—В–Є ¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В¬ї –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–∞—П—Б—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В—Ж–∞ –Ї–∞–Ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —А—Л–љ–Ї–∞, –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є—Б—В—Ж–∞ –Ї –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —Г—В—А–∞—В–Є–ї–∞ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В—Ж–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –Є—Е.
–° –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1521 –У–Ъ –†–§ –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –і–ї—П –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є —Б—К–µ–Љ–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –і–ї—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П—Е, –Є–ї–Є –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е (—Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е, —Б—К–µ–Ј–і–∞—Е, –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П—Е, –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞—Е, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е), –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –љ–µ –±—Г–і–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Д–Њ—В–Њ—Б–љ–Є–Љ–Њ–Ї –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ (–њ—Г–љ–Ї—В 45 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 23 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 25
¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ I —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –µ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –±–µ–Ј –µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е, –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞—П –њ—А–∞–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ.
–Ъ–∞–Ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ, –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В—Ж–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –Є–Љ–µ–љ–Є –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ–≥–Њ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –≤ —Б—В–∞—В—М—П—Е –Є —Б—О–ґ–µ—В–∞—Е —В–µ–Љ–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—В—Ж–∞, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є—Б—В—Ж–∞ –љ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є—Б—В—Ж–∞ –Є –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є–Ј —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б—К–µ–Љ–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–µ—Б—В–µ, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –і–ї—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П, –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —А—Л–љ–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б—В—А–µ—З–Є –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Є—Б—В–µ—Ж.
–Ф–Њ–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–± —Г—В—А–∞—В–µ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–ї—П —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є –Є –≤–Є–і–µ–Њ—А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–µ–є –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ. –£–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В—Ж–∞ —Б –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В—Ж–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М
–≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Г–і–∞–ї–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–Є –Є –≤–Є–і–µ–Њ—А–µ–њ–Њ—А—В–∞–ґ–Є –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –Ї –љ–Є–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 10 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 27 –Є—О–ї—П 2006 –≥.
вДЦ 149-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е –Є –Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є¬ї –Є —З–∞—Б—В–µ–є 12вИТ14 —Б—В–∞—В—М–Є 10 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 27 –Є—О–ї—П 2006 –≥. вДЦ 152-–§–Ч ¬Ђ–Ю –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е¬ї, –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є –ї–Є—Ж–Њ, –Њ–±—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –≤—Л–і–∞—З—Г —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Ї —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1991 –≥.
вДЦ 2124-I ¬Ђ–Ю —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є¬ї, —З–∞—Б—В–µ–є 7 –Є 8 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є —Б—В–∞—В–µ–є 150, 1521 –Є 1522 –У–Ъ –†–§.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 5-–Ъ–У25-15-–Ъ2
–Ч–∞—Й–Є—В–∞ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤
13. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ј–∞ –±—Л–≤—И–Є–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є–Ј—Л–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В –љ–∞ —Г—З–µ—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞.
–Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Ы. –Є –Т. –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б–љ—П—В–Є–Є –Є—Е —Б —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –Є—Б–Ї–µ –∞–і—А–µ—Б—Г.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Ы.–Ю. –Є –Т.–Э., –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –њ–Њ 1/2 –і–Њ–ї–µ. –†–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—В 24 –Љ–∞—П 2019 –≥. вДЦ 846-—А –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л–є –ґ–Є–ї–Њ–є –і–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј—К—П—В–Є–µ–Љ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і –Ы.–Ю. –Є –Т.–Э. –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є–Ј—Л–Љ–∞–µ–Љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ (–њ–Њ 1/2 –і–Њ–ї–µ) –Є –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Б–љ—П—В—М—Б—П —Б —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞. –Т–Ј–∞–Љ–µ–љ –Є–Ј—Л–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Т.–Э. –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ
–љ–∞–є–Љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞, –Ы.–Ю. –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є. 18 –Љ–∞—П 2022 –≥. –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ.
–Ю—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Є –Ы. –Є –Т. –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –і–ї—П –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Є—Б—В—Ж–∞, –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Г –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В–µ–є 292, 301 –У–Ъ –†–§, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г, –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Є –Ы. –Є –Т. –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—В, –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Г –љ–Є—Е –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.
–°–Њ–≥–ї–∞—И–∞—П—Б—М —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В–µ–є 35, 83 –Ц–Ъ –†–§, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ы. –Є –Т. —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П, –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ.
–°—В–∞—В—М–µ–є 304 –У–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, —Е–Њ—В—П –±—Л —Н—В–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ 1, 2 —Б—В–∞—В—М–Є 292 –У–Ъ –†–§ —З–ї–µ–љ—Л —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ –µ–Љ—Г –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–є –і–Њ–Љ –Є–ї–Є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 35 –Ц–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ, –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є, –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ, –Є–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –і–∞–љ–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ (–њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є–Љ). –Х—Б–ї–Є –і–∞–љ–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –≤ —Б—А–Њ–Ї, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ
—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞.
–°—В–∞—В—М–µ–є 31 –Ц–Ъ –†–§ —Г—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ –µ–Љ—Г –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є. –Ъ —З–ї–µ–љ–∞–Љ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –љ–Є–Љ –≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ –µ–Љ—Г –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–µ—В–Є –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, –љ–µ—В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Є–ґ–і–Є–≤–µ–љ—Ж—Л –Є –≤ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Є–љ—Л–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Л —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є (—З–∞—Б—В—М 1 —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є).
–Т —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 31 –Ц–Ъ –†–§ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞ –±—Л–≤—И–Є–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –±—Л–≤—И–Є–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 19 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2004 –≥. вДЦ 189-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ц–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 31 –Ц–Ъ –†–§ –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –±—Л–≤—И–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є —А–∞–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–њ–Њ 1/2 –і–Њ–ї–µ) —Г –Ы.–Ю. –Є –Т.–Э., 2012 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є (–њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є) –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П (–Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л) –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В 15 –∞–њ—А–µ–ї—П 2015 –≥.
–Я—А–Є –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Є –Ы. –Є –Т. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ы.–Ю. –Є –Т.–Э., –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ –±–µ—Б—Б—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–µ–Ј–і–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –Ы. –Є –Т. –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –≤—Л–µ—Е–∞—В—М –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –ґ–Є–ї–Њ–є –і–Њ–Љ –Њ—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Н–љ–µ—А–≥–Њ–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 15 –Ц–Ъ –†–§ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ—Л–є –і–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Т –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –≤—Б–µ –ґ–Є–ї—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П.
–Т–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, —Б—А–Њ–Ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Є–Ј—К—П—В–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П.
–Я—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј—К—П—В–Є–µ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞–≤–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є —Г –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—Л—Е –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є, –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ —И–µ—Б—В—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ (—З–∞—Б—В—М 6 —Б—В–∞—В—М–Є 32 –Ц–Ъ –†–§).
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 19 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2004 –≥. вДЦ 189-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ц–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, —З–∞—Б—В—М 6 —Б—В–∞—В—М–Є 32 –Ц–Ъ –†–§ –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В вИТ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є вИТ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –±—Л–≤—И–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ вИТ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤, –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –∞–њ—А–µ–ї—П 2024 –≥. вДЦ 21-–Я ¬Ђ–Я–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 32 –Ц–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Ї–Є –ѓ.–Т. –®—В—А–∞—Г—Б¬ї —З–∞—Б—В—М 6 —Б—В–∞—В—М–Є 32 –Ц–Ъ –†–§ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –і–∞–љ–љ–∞—П –љ–Њ—А–Љ–∞ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤ –±—Л–≤—И–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Н—В–Њ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –≤ –ґ–Є–ї–Є—Й–µ, –њ—А–Є –Є–Ј—К—П—В–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П) –і–ї—П –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є.
–Ш–Ј –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤–њ—А–µ–і—М –і–Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В—М 6 —Б—В–∞—В—М–Є 32 –Ц–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–Ј—К—П—В–Є—П —Г —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ —Б–љ–Њ—Б—Г –Є–ї–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Б—Г–і –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б вИТ –µ—Б–ї–Є —В–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –±—Л–≤—И–Є–є —З–ї–µ–љ —Б–µ–Љ—М–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А–∞–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ —Б –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П
–≤ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, вИТ –Њ–± —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –≤ –ґ–Є–ї–Є—Й–µ, –Њ–±—П–Ј–∞–≤ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –Є–Ј—Л–Љ–∞–µ–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–ї–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є–ї–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –і–ї—П –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є–Ј—Л–Љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л–≤—И–Є–є —З–ї–µ–љ —Б–µ–Љ—М–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В –љ–∞ —Г—З–µ—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ.
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Є —Б—Б—Л–ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–ї—П –љ–Є—Е –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є—Е –≤—Л–µ–Ј–і –љ–Њ—Б–Є–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—В–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –Њ—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Н–љ–µ—А–≥–Њ–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П, —Б 2020 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –Є–љ—Л—Е –ґ–Є–ї—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є, –њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л—Е –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В–µ–є 55, 56 –У–Я–Ъ –†–§ –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б—Г–і–Њ–Љ –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 70-–Ъ–У24-4-–Ъ7
14. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ –µ–≥–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ъ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —Б 2007 –≥–Њ–і–∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В, —Г—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Є –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є –≤ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –Є—Б–Ї–µ –∞–і—А–µ—Б—Г. –°–њ–Њ—А–љ–∞—П –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –•. –≤ 1986 –≥–Њ–і—Г —Б —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М–Є —В—А–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—А–і–µ—А–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –•. –≤ 2002 –≥–Њ–і—Г —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б—В–∞–ї –µ–µ —Б—Л–љ –•.–Ф., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 2007 –≥–Њ–і—Г –≤—Б–µ–ї–Є–ї –Є—Б—В—Ж–∞ –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ 15 –ї–µ—В, –≤–µ–ї–Є –Њ–±—Й–µ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ, –Є–Љ–µ–ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –±—Л—В –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –•.–Ф. –≤ 2023 –≥–Њ–і—Г. –†–∞—Б—Е–Њ–і—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –•.–Ф., –љ–µ—Б–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б—В–µ—Ж.
–Ь–µ—Б—В–љ–∞—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Ъ. –Њ –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ–∞—П –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ –≤ 1991 –≥–Њ–і—Г. –Т —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –љ–µ—В, –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—З–µ—В –Ј–∞–Ї—А—Л—В. –Т—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤–Њ—Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ъ., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ
–њ–Њ–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–µ –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞. –Ю—В–≤–µ—В—З–Є–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Ј–∞–љ—П—В–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї –Ъ. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М. –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О, —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤—Л—Б–µ–ї–Є—В—М –Ъ. –Є–Ј –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М —Б –Ъ. –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Г—О –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї—Г –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 10 000 —А—Г–±. –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –і–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–∞–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ъ., —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ъ. –≤ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л –Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞; –µ—О –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ. –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞. –Ш–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ъ. –≤—Б–µ–ї–µ–љ–∞ –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї —З–ї–µ–љ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–є –Њ –µ–µ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —З–ї–µ–љ–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –љ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –•.–Ф. –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є –љ–µ –њ–µ—А–µ–Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ —Б —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П. –Ю—В–Ї–ї–Њ–љ—П—П –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ъ. –Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –µ—О —Б –•.–Ф. –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, —Б—Г–і —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –•.–Ф. –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, –Њ–љ–∞ –Є —Г–Љ–µ—А—И–Є–є –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±—А–∞–Ї, –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–њ–Њ—А–љ—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г.
–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ–± –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –µ–є –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ —Д–∞–Ї—В –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ъ. –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ.
–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –≤ –љ–∞—В—Г—А–µ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —Б—Г–і –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї —Б –Ъ. –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Г—О –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї—Г –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 500 —А—Г–±. –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–љ—П–ї –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ъ. –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї —З–ї–µ–љ —Б–µ–Љ—М–Є –•.–Ф., –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ –Є —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є –•. —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ъ. –Є –•.–Ф. –ґ–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є, –≤–µ–ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–љ—М —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, —З—В–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –•.–Ф. –љ–µ—Б–ї–∞ –Ъ., –Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П
—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ъ. –Є –і–ї—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є.
–°—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 83 –Ц–Ъ –†–§ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 82 –Ц–Ъ –†–§ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П —З–ї–µ–љ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –≤–њ—А–∞–≤–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П.
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 686 –У–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤—Л–±—Л—В–Є—П –Є–Ј –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —В–µ—Е –ґ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –∞ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б –њ—А–µ–ґ–љ–Є–Љ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—О –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є. –Х—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ, –≤—Б–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —Б–Њ–љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є.
–Т —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 70 –Ц–Ъ –†–§ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М —Б —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –≤–њ—А–∞–≤–µ –≤—Б–µ–ї–Є—В—М –≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–µ –Є–Љ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞, —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–ї–Є —Б —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –≤ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –Є –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—П вИТ –і—А—Г–≥–Є—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –љ–Є–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є. –Э–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є—В—М –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Б–µ–Љ—М–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В –Љ–µ–љ–µ–µ —Г—З–µ—В–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ—Л. –Э–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –Є—Е –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –љ–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—П.
–Т—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –≤–ї–µ—З–µ—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 28 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 2 –Є—О–ї—П 2009 –≥. вДЦ 14 ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Ц–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –≤ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –Є (–Є–ї–Є) —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ (—З–∞—Б—В—М 1 —Б—В–∞—В—М–Є 70 –Ц–Ъ –†–§), —В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ
–Є –љ–µ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ —Г –ї–Є—Ж–∞ –њ—А–∞–≤ —З–ї–µ–љ–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ –µ–≥–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —З–ї–µ–љ—Л –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Ї –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—О —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –•.–Ф. –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї –љ–∞–є–Љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—О –Ј–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –љ–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ъ. –≤ –ґ–Є–ї–Њ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Ъ. –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Г—О —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –≤ –Є–љ–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Б—П –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –і–Њ—З—М –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П.
–Я–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤—Л 7 –Ц–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞ –Є —З–ї–µ–љ—Л –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –њ—А–∞–≤–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Є–Љ –ґ–Є–ї—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–Љ–∞, —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г—З—В–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 58-–Ъ–У24-9-–Ъ9
–Ч–∞—Й–Є—В–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ
15. –Э–Њ—А–Љ—Л —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –љ–Њ—А–Љ—Л, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Є–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –Ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є.
–°. 28 –Є—О–ї—П 2023 –≥. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О ¬Ђ–Ш–Љ–њ—Г–ї—М—Б¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ) –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥. –њ–Њ 29 –Є—О–љ—П 2023 –≥., —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є, –Њ–± –Њ–±—П–Ј–∞–љ–Є–Є –≤–љ–µ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г, –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –°. —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥. –њ–Њ 29 –Є—О–љ—П 2023 –≥. —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–Љ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Г—Б–ї—Г–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–Є–Љ –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ
–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Њ–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞, –Ј–∞ —З—В–Њ –µ–Љ—Г –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л, –≥—А–∞—Д–Є–Ї —Б–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –°. –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ —Г–њ–ї–∞—В—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –њ–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—О.
–Ю—В–≤–µ—В—З–Є–Ї –≤ —Б—Г–і–µ –Є—Б–Ї –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 392 –Ґ–Ъ –†–§ –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞–Љ, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –°. –њ—А–Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В 18 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥. –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –°. —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ. –†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В–µ–є 15, 16 –Ґ–Ъ –†–§, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ —Б—В–∞—В—М–Є –У–Ъ –†–§ –Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Г—Б–ї—Г–≥ –Є, –і–∞–≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥. –њ–Њ 29 –Є—О–љ—П 2023 –≥. –Љ–µ–ґ–і—Г –°. –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ–Є, —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –°. –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ (—Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Л —В—А—Г–і–∞ –Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Н—Д—Д–Є—Ж–Є–µ–љ—В–∞) –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –°. –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г.
–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ –°. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 392 –Ґ–Ъ –†–§ –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –°. –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –°. —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Ї –љ–Є–Љ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –і–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б –і–∞—В—Л –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж.
–Ю—В–Љ–µ—В–Є–≤, —З—В–Њ –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤ –°. —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б –і–∞—В—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б 29 –Є—О–љ—П 2023 –≥., –∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥–Њ–і–∞, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ –°. –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –Є–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥. –њ–Њ –Є—О–ї—М 2022 –≥–Њ–і–∞, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –°. —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Ї —Б—Г–і—Г –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—А–Њ–Ї–∞, –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –і–µ–ї–Њ –њ–Њ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –°., –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –°. —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥.
–њ–Њ 29 –Є—О–љ—П 2023 –≥. –Є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –і–ї—П –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –°. –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ –Є –Є–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ –°. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 392 –Ґ–Ъ –†–§ –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤ —Б—Г–Љ–Љ—Г –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –°. –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–≤–µ–і—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Ґ–Ъ –†–§, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є—Е —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–Љ —Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –њ—А–Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П—В—М –Є–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е, –∞ –љ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –°. –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є (—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ—В 18 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥.), —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –°. –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ –≥–Њ–і–Є—З–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –°. –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —З–∞—Б—В—М—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 392 –Ґ–Ъ –†–§ –≥–Њ–і–Є—З–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ —З–∞—Б—В–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є
—Б—В–∞—В—М–Є 392, —З–∞—Б—В–Є —И–µ—Б—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 136 –Ґ–Ъ –†–§.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –°. –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥. –Є —Б —Н—В–Њ–є –і–∞—В—Л –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ –°. –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ- –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ —А–∞–±–Њ—В—Г, –≤–≤–Є–і—Г —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ –°. –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–∞ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–Є–ї–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ.
–Я–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—В—М–µ–є 392 –Ґ–Ъ –†–§, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —Б–Њ –і–љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Г–Ј–љ–∞–ї –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Г–Ј–љ–∞—В—М –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –і–ї—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤. –Ъ —В–∞–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б–њ–Њ—А—Л –Њ –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Є–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, —Б—А–Њ–Ї –љ–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–і, –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ–Љ—Л–є —Б–Њ –і–љ—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є.
–°—А–Њ–Ї–Є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б—В–∞—В—М–µ–є 136 –Ґ–Ъ –†–§, —Б—А–Њ–Ї–Є —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —Б —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б—В–∞—В—М–µ–є 140 –Ґ–Ъ –†–§.
–Ґ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –і–∞—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є (—З–∞—Б—В—М –њ–µ—А–≤–∞—П —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Ґ–Ъ –†–§).
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ –і–µ–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 3 —П–љ–≤–∞—А—П 2021 –≥. –њ–Њ 29 –Є—О–љ—П 2023 –≥. —Б –°. –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Г—Б–ї—Г–≥, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Є–Љ –≤ —Б—Г–і –±—Л–ї–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –°. —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞ –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–Є–Њ–і –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞, –Њ–± –Њ–±—П–Ј–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤–љ–µ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г –°., –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Д–Њ–љ–і—Л –Є –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г.
–Ш–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 11, —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 14, —Б—В–∞—В—М–Є 191 –Ґ–Ъ –†–§ –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В 29 –Љ–∞—П 2018 –≥. вДЦ 15 ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ —В—А—Г–і —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е —Г —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–є вИТ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –Є —Г —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–є вИТ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї –Љ–Є–Ї—А–Њ–њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ¬ї, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –∞ —Г –Є—Б—В—Ж–∞ –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—А—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ, –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –њ—А–Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П—В—М –і—А—Г–≥–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ—А–Љ—Л —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –љ–Њ—А–Љ—Л, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Є–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –Ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ —В–∞–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Ґ–Ъ –†–§ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–Є–є –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –°. –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Г—Б–ї—Г–≥, –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –°. –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –±—Л–ї–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ—Л –Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ–Є, —Б—А–Њ–Ї –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –°. –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –Є–Љ –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –Њ—В–Љ–µ–љ—П—П –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ –°. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є 392 –Ґ–Ъ –†–§ –≥–Њ–і–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –Њ –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Є–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В, –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–ї –љ–Њ—А–Љ—Л –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ —Б—А–Њ–Ї–∞—Е –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –Ј–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –°.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 64-–Ъ–У24-4-–Ъ9
16. –Я—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—А—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ (—Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ) –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є, –∞ –љ–µ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ—Л –Є–Љ–Є.
–Я. 28 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –§–Њ–љ–і–∞ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –°–∞—Е–∞ (–ѓ–Ї—Г—В–Є—П) (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Њ—А–≥–∞–љ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П) –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Я. —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –±—А–∞–Ї–µ —Б –Ш., 27 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2022 –≥. —Г –љ–Є—Е —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ—З—М –Ь.
–Я. 26 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—А–≥–∞–љ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –µ–є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞
–Њ—В 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2017 –≥. вДЦ 418-–§–Ч ¬Ђ–Ю –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞—Е —Б–µ–Љ—М—П–Љ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –і–µ—В–µ–є¬ї.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Я. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Я. 2-–Ї—А–∞—В–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞ —В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –°–∞—Е–∞ (–ѓ–Ї—Г—В–Є—П). –Я—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Я. –Є–Ј –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –µ–µ —Б–µ–Љ—М–Є –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ —Б—Г–Љ–Љ–∞ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ –Я. вАУ –Ш. –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Я., —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Я. —Г –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є–Ј –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Н—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є —Б—Г–Љ–Љ—Л —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ –Я. –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –≤–Є–і–Њ–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2003 –≥. вДЦ 512, –љ–∞ –і–∞—В—Г –њ–Њ–і–∞—З–Є –Я. –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ.
–Ш–Ј –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –Ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 3, —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 12 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 17 –Є—О–ї—П 1999 –≥. вДЦ 178-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є¬ї, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1997 –≥. вДЦ 134-–§–Ч
¬Ђ–Ю –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, —З–∞—Б—В–Є —В—А–µ—В—М–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є 5 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 5 –∞–њ—А–µ–ї—П 2003 –≥. вДЦ 44-–§–Ч ¬Ђ–Ю –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Г—З–µ—В–∞ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –і–ї—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є—Е –Љ–∞–ї–Њ–Є–Љ—Г—Й–Є–Љ–Є –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є¬ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ —Б–µ–Љ—М–Є, –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б—В–≤–∞, –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –Є –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –Њ—Б–Њ–±–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –Љ–µ—А –њ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П —Б–µ–Љ–µ–є —Б –і–µ—В—М–Љ–Є. –Я—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є —Б–µ–Љ—М—П–Љ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –і–µ—В–µ–є, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Є—Е —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–є –і–Њ—Е–Њ–і –љ–Є–ґ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є
–≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П –ґ–Є–Ј–љ–Є —Н—В–Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є.
–Ю–і–љ–Њ–є –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–∞—П –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ (—Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ) –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2017 –≥. вДЦ 418-–§–Ч ¬Ђ–Ю –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞—Е —Б–µ–Љ—М—П–Љ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –і–µ—В–µ–є¬ї. –Я—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї —А–Њ–ґ–і–µ–љ (—Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї–µ–љ) –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2018 –≥. –і–Њ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–є –і–Њ—Е–Њ–і —Б–µ–Љ—М–Є –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В 2-–Ї—А–∞—В–љ—Г—О –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Г –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞ —В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ф–ї—П —А–∞—Б—З–µ—В–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Ј–∞ 12 –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –°—А–µ–і–Є —В–∞–Ї–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ вИТ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–∞—П –њ–ї–∞—В–∞, –њ–µ–љ—Б–Є–Є, –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П, –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е, —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2003 –≥. вДЦ 512 —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –≤–Є–і–Њ–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М). –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Я–µ—А–µ—З–љ–µ (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –і–Њ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥.) –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –Є–ї–Є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л–µ —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є (–∞–±–Ј–∞—Ж –і–µ–≤—П—В—Л–є –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–ґ¬ї –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 –Я–µ—А–µ—З–љ—П). –Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 –Я–µ—А–µ—З–љ—П –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є–ї–Є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 2522 ¬Ђ–Ю –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 29 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 1933 –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ–Є —Б–Є–ї—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –≤ —Б–Є–ї—Г —Б 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥., –њ—Г–љ–Ї—В 3 –Я–µ—А–µ—З–љ—П –≤–Є–і–Њ–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2003 –≥.
вДЦ 512 –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ —Б–Є–ї—Г.
–Т –Я–µ—А–µ—З–љ–µ –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –і–∞—В—Г –њ–Њ–і–∞—З–Є –Я. –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ вИТ 26 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л–µ —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є (–∞–±–Ј–∞—Ж –і–µ–≤—П—В—Л–є –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–ґ¬ї –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 –Я–µ—А–µ—З–љ—П).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є —Г—З–µ—В—Г –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–∞ –і–Њ—Е–Њ–і–∞.
–Т—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Я. –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М —Б—Г–Љ–Љ—Л —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ –Я. вАУ –Ш. –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е, –Ї–∞–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Г—З–µ—В—Г –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ –Є—Е —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—А—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е —Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Б–µ–Љ—М–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є, –∞ –љ–µ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ—Л –Є–Љ–Є, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–µ—А–µ—З–љ—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї –і–Њ—Е–Њ–і–∞–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—Г–Љ–Љ—Л, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л. –Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я–µ—А–µ—З–љ—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –Є–ї–Є –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —Б—Г—В–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є.
–Ш–љ–Њ–µ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–Є –Є –≤–Є–і–∞—Е –і–Њ—Е–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М–Є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—А—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–є –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ (—Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ) –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ —Б—Г–Љ–Љ—Л –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –і–Њ—Е–Њ–і—Л —Б–µ–Љ—М–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—Й–µ–є —Н—В–Є –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В—Л, –Є –≤ –і–Њ—Е–Њ–і—Л —В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, —З–ї–µ–љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є—Е —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В.
–Т—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е —Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, —Б—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –і–Њ–≤–Њ–і –Я. –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А —Б—А–µ–і–љ–µ–і—Г—И–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –µ–µ —Б–µ–Љ—М–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –µ–µ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ –∞–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞, –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В 2-–Ї—А–∞—В–љ—Г—О –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Г –њ—А–Њ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞ –і–ї—П —В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –°–∞—Е–∞ (–ѓ–Ї—Г—В–Є—П).
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є, –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–µ –≤—Л—П–≤–Є–ї –Є –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 3796 –Є —З–∞—Б—В–µ–є 1вИТ3 —Б—В–∞—В—М–Є 3797 –У–Я–Ъ –†–§.
–Т–≤–Є–і—Г –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 74-–Ъ–У24-2-–Ъ9
17. –Х—Б–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, —В–Њ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–Њ–Љ.
–Х. 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2023 –≥. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ, —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—М) –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ (–љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ) –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Б 1986 –њ–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—М 2022 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–µ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П —Б–њ–µ—Ж–і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ.
–Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 2022 –≥–Њ–і–∞ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Х. —А–∞—Б—В–Њ—А–≥–ї–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ, –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–≤ –≤ —Г—Б—В–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –µ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ—О—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ 2023 –≥–Њ–і—Г. 13 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –Х. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ —Б 6 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2023 –≥., –≤ —З–µ–Љ –µ–є –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ 30 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤–∞–Ї–∞–љ—Б–Є–є.
–Х. —Б—З–Є—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 31 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ ¬Ђ–†–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–µ –≤–∞–Ї–∞–љ—Б–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Х. –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П —Г –љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Х., –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є –µ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤—Л–Ј–≤–∞–љ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–µ–є, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–є –і–Њ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–є –Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–Х., —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞—В—М–Є 3, 22, 64 –Ґ–Ъ –†–§, –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —Б—Г–і –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –µ–µ –і–µ–ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –і–∞—В—Л –µ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –њ–Њ—А—В–∞–ї–µ
¬Ђ–†–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Х. –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П.
–Р–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞.
–Т –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ –Њ—В 30 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Х. –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П. –° –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Х. –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ—Л –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—П –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞, —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Г —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї—Г–≥, –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л. –Т –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є (–Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А) —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є—О —Б—Г–і–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ –Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Ш–Ј –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Њ –њ—А–∞–≤–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –љ–∞ —В—А—Г–і –Є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Ї —В—А—Г–і—Г, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—Г—В–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –≤ –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –Ј–∞–њ—А–µ—В–µ –љ–∞ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Є –Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і (—З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 37 –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В–µ–є 1вИТ3, 5, 9, 16, 21, 22, 63, 64вИТ71 –Ґ–Ъ –†–§) –Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –і–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 10 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В 17 –Љ–∞—А—В–∞ 2004 –≥. вДЦ 2 ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –Љ–µ–ґ–і—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ґ—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –Љ–µ–ґ–і—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞.
–Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤ —Б–Є–ї—Г –µ–≥–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М, –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –і–µ–ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е
—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П —Г –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤. –Ю—В–Ї–∞–Ј —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ –≤ —Б—Г–і –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Г –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ (–љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ), —В–Њ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–∞–±–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–Њ–Љ. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ї —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –љ–Њ—А–Љ—Л –Ґ—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є—О —Б—Г–і–∞, –∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –ї–Є—Ж–∞, –ґ–µ–ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 64 –Ґ–Ъ –†–§ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ (—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П) –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Х. –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–≤ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ, –Њ–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ (—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П) –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г, –Х. –Є–Љ–µ–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї—М—О —В—А—Г–і–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Г –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —В—А—Г–і. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г.
–Э–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Ї —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–∞ –Х. –љ–∞ —В—А—Г–і, –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—В—М–µ–є 37 –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–µ –≤—Л—П–≤–Є–ї –Є –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є–ї.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Х. –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞
–Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б –љ–µ–є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –і–µ–ї–Њ –≤ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 2-–Ъ–У24-8-–Ъ3
–Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л
18. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Є –Њ–± –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е –ї–Є—Ж–∞, –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї —Г—З–∞—Б—В–Є—О –≤ –і–µ–ї–µ, –њ—Г—В–µ–Љ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П.
–Т—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥. —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ї –У., –Я.: –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 23:30:0701000:658 –љ–∞ 28 –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤; –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–є –њ–ї–∞–љ, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–є —Г—З–µ—В –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Є—Е –љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–є —Г—З–µ—В –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≤–Є–і–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –Х–У–†–Э —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –У. –љ–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 23:30:0701000:658 –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 18 700 –Ї–≤. –Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –∞–≥—А–Њ—Д–Є—А–Љ—Л, —Б –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П
¬Ђ–і–ї—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї.
3 –Є—О–љ—П 2024 –≥. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–∞ –Є –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞) –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ –љ–∞ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥., —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 23:30:0701000:658 –љ–∞ 28 –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, –Њ —Б–љ—П—В–Є–Є –Є—Е —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Є –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –У. –љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Х–У–†–Э —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 23:30:0701000:4296, 23:30:0701000:4306, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Я. –Т —Ж–µ–ї—П—Е –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —П—Б–љ–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Є —Б–љ—П—В–Є–Є —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 23:30:0701000:4296, 23:30:0701000:4306.
–°—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–∞—З–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –Є—Б–Ї–∞ –≤ —Б—Г–і –Є–Ј 28 –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –У. –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—В 31 –Љ–∞—П 2023 –≥. –њ—А–Њ–і–∞–љ—Л –Я. –і–≤–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 23:30:0701000:4306 –Є 23:30:0701000:4296.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ –Є–Ј –Х–У–†–Э –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 23:30:0701000:4306 –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 700 –Ї–≤. –Љ —Б –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї —Б 1 –Є—О–љ—П 2023 –≥. –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Я.; –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–Љ 23:30:0701000:4296 –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 822 –Ї–≤. –Љ —Б –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—З–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ¬ї —В–∞–Ї–ґ–µ —Б 1 –Є—О–љ—П 2023 –≥. –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Я.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —Б—Г–і –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥., —Б–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В —Б—Г—В–Є –Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ. –Т –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Є —Б–љ—П—В–Є—П —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 23:30:0701000:4296, 23:30:0701000:4306.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ –Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 202 –У–Я–Ъ –†–§ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ, –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –ї–Є—Ж, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –і–µ–ї–µ, —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П –≤–њ—А–∞–≤–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—П –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П. –†–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ –Є—Б—В–µ–Ї —Б—А–Њ–Ї, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ (—З–∞—Б—В—М 1).
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 16 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2003 –≥. вДЦ 23 ¬Ђ–Ю —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є¬ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—В–∞—В—М—П 202 –У–Я–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б—Г–і—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—П –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М, —Е–Њ—В—П –±—Л —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –µ–≥–Њ –ґ–µ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Є —П—Б–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤. –Ю–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –љ–µ—З–µ—В–Ї–Њ—Б—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–і –≤–Є–і–Њ–Љ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –Є–ї–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥., —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Є —Б–љ—П—В–Є–Є —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 23:30:0701000:4296 –Є 23:30:0701000:4306, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Я.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –Я. –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –љ–µ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Я. –љ–µ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М.
–Ш–Ј —В–µ–Ї—Б—В–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –У. –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–Њ–Љ–µ—А–∞–Љ–Є 23:30:0701000:4296 –Є 23:30:0701000:4306, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Я. –љ–µ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М.
–°—Г–і, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ—В 31 –Љ–∞—П 2023 –≥., —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Я., –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ –Я. –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–Њ–µ –µ—О –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—Г—В–µ–Љ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –Я. —Б—Б—Л–ї–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–µ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, –Њ–љ–∞ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї –љ–∞ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–µ–Ї.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ –Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Њ—В 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2023 –≥.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 18-–Ъ–У25-101-–Ъ4
19. –Я—А–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–∞—З—Г —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П–Љ–Є, –≤ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–µ –і–љ–Є вИТ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –і–љ–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 1 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2018 –≥. —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Х. –Ї –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –і–Њ–ї–Є –≤ –њ—А–∞–≤–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Њ–±—Й–µ–є –і–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є—П.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥. –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
14 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. –≤ —Б—Г–і –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —З–∞—Б—В–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –њ—А–Њ—Б—М–±–∞ –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –µ–µ –њ–Њ–і–∞—З–Є.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –љ–∞ –њ–Њ–і–∞—З—Г —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Є—Б—В–µ–Ї 8 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥., —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –њ–Њ–і–∞–љ–∞ –≤ —Б—Г–і —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥.
–Ъ–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–∞—З–Є —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞, –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ.
–° —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–∞—З—Г —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П–Љ–Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 332 –У–Я–Ъ –†–§ —З–∞—Б—В–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ–Њ–і–∞–љ—Л –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –і–љ–µ–є —Б–Њ –і–љ—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –µ—Б–ї–Є –Є–љ—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 107 —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞, –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ–Є, –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –і–љ—П–Љ–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –і–∞—В—Л –Є–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ.
–Т —Б—А–Њ–Ї–Є, –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ–Љ—Л–µ –і–љ—П–Љ–Є, –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–µ –і–љ–Є, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 111 –Ґ–Ъ –†–§ –≤—Б–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–µ –і–љ–Є (–µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–є –Њ—В–і—Л—Е). –Я—А–Є –њ—П—В–Є–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –і–≤–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л—Е –і–љ—П –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О, –њ—А–Є —И–µ—Б—В–Є–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ вАУ –Њ–і–Є–љ –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–µ–љ—М.
–Ю–±—Й–Є–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –і–љ–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ. –Т—В–Њ—А–Њ–є –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–µ–љ—М –њ—А–Є –њ—П—В–Є–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –љ–µ–і–µ–ї–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞. –Ю–±–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л—Е –і–љ—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ–і—А—П–і.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Б—Г–і–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –њ—П—В–Є–і–љ–µ–≤–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—З–∞—П –љ–µ–і–µ–ї—П, —В–Њ –Ї –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –і–љ—П–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –∞–±–Ј–∞—Ж—Г –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 107 –У–Я–Ъ –†–§ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ.
–Ґ–∞–Ї, –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 16 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 22 –Є—О–љ—П 2021 –≥. вДЦ 16 ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–Њ—А–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ —Б—Г–і–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–∞—З—Г –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 321 –У–Я–Ъ –†–§, —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –і–µ–љ—М —Б—А–Њ–Ї–∞ –≤—Л–њ–∞–і–∞–µ—В –љ–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–µ–љ—М (—Б—Г–±–±–Њ—В—Г –Є–ї–Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ) –ї–Є–±–Њ –љ–∞ –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М, –і–љ–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М (—З–∞—Б—В–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 108 –У–Я–Ъ –†–§, —Б—В–∞—В—М–Є 111 –Є 112 –Ґ–Ъ –†–§).
–Т —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—А–Њ–Ї –љ–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П –і–љ—П–Љ–Є, –≤ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Є –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –і–љ–Є (—З–∞—Б—В—М 3 —Б—В–∞—В—М–Є 107 –У–Я–Ъ –†–§, —Б—В–∞—В—М–Є 111 –Є 112 –Ґ–Ъ –†–§), –µ—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –У–Я–Ъ –†–§.
–Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Є –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 2 –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Р—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2013 –≥. вДЦ 99 ¬Ђ–Ю –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–Њ–Ї–∞—Е¬ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ї –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –і–љ—П–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Є –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ –і–љ–Є. –Т—Л—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—Г–±–±–Њ—В–∞ –Є –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е –і–љ–µ–є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 112 –Ґ–Ъ –†–§ –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ –і–љ–µ–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, 4 –љ–Њ—П–±—А—П вАУ –Ф–µ–љ—М –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞.
–Я—А–Є —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–є –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г 4 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Є –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–Љ (—Б—Г–±–±–Њ—В–∞), –Є –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–Љ –і–љ–µ–Љ, –≤—Л—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–µ–љ—М –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –і–µ–љ—М, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ 6 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. (–њ–Њ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї).
–Ш–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –∞–Ї—В–Њ–≤ –Є—Е —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ–і–∞—З–Є —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥. –љ–∞—З–∞–ї —В–µ—З—М 25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥. вАУ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, –∞ –Њ–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П 15 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ 28 –Є 29 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥., 4, 5, 6, 11 –Є 12 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є. –І–∞—Б—В–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ —Б —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–і–∞–љ–∞ –≤ —Б—Г–і 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥., —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е
—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–∞.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞, –∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 18-–Ъ–У25-240-–Ъ4
20. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О —Б –љ–µ–≥–Њ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—Г–Љ–Љ—Л –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –і–Њ –і–љ—П –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –µ–≥–Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ.
–Ь. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞ –Њ—В 19 –Љ–∞—А—В–∞ 2018 –≥., –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 2 619 188 —А—Г–±. –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 19 –Љ–∞—А—В–∞ 2018 –≥. –њ–Њ 31 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥., —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Њ—З–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –±—Л–ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ –µ–µ –Є—Б–Ї –Ї –С., —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –µ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ—Л –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ–ї–≥ –љ–µ –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –і–µ–ї–Њ –Њ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є (–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ).
–°—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, —З—В–Њ 20 –Є—О–љ—П 2018 –≥. –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Ь. –≤—Л–і–∞–љ—Л –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ –С.
6 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2020 –≥. –Ь. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –С. –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ (–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ).
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 8 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥. –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ь. –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –С. –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ (–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ) –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –С. –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ —А–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є. –Я—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –≤ —В—А–µ—В—М—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —А–µ–µ—Б—В—А–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –С. —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ь. –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ
1 600 000 —А—Г–±. –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є—П, 200 000 —А—Г–±.
–љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, 619 188 —А—Г–±. –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, 10 000 —А—Г–±. –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ
–≤—А–µ–і–∞, 100 000 —А—Г–±. —И—В—А–∞—Д–∞; —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 200 000 —А—Г–±. –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є,
619 188 —А—Г–±. –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, 100 000 —А—Г–±. —И—В—А–∞—Д–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Г—З–µ—Б—В—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —А–µ–µ—Б—В—А–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Є—З–Є—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥. –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ —А–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤ –С. –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞, –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ (–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ), –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Ь. –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 213 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 26 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2002 –≥. вДЦ 127-–§–Ч ¬Ђ–Ю –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є (–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ)¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ), –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б –і–∞—В—Л –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —А–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ–≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–µ–Ї (—И—В—А–∞—Д–Њ–≤, –њ–µ–љ–µ–є) –Є –Є–љ—Л—Е —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–Ї—Г—Й–Є—Е –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ–є. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –С. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ (–±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–Њ–Љ) –Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞ –Њ—В 19 –Љ–∞—А—В–∞ 2018 –≥., –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ь. –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —В—А–µ—В—М—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —А–µ–µ—Б—В—А–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —Б—Г–Љ–Љ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —А–µ–µ—Б—В—А —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–≤.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ –њ—А–∞–≤–∞, –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Є—Е –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ь. –Њ–± –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л —Б –і–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—П–Љ–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 208 –У–Я–Ъ –†–§ –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ —Б—Г–і, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤—И–Є–є –і–µ–ї–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є—О –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ –љ–∞ –і–µ–љ—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞. –Х—Б–ї–Є –Є–љ–Њ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—Г–Љ–Љ—Л –Є–љ–і–µ–Ї—Б–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б–Њ –і–љ—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Є–ї–Є, –µ—Б–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ, —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–∞—П –≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 213, –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ 1, 2 —Б—В–∞—В—М–Є 21311 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ–± –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –ї–Є—Ж–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞—Е –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–∞, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є –њ–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б —Ж–µ–ї—М—О —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Є —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ —Б –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–∞–Љ–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В—М—О.
–§–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–µ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є –Є –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞—Е, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л—Е –≤ –і–µ–ї–µ –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ—А–∞—В–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–∞–Љ–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 4 —Б—В–∞—В—М–Є 63, –њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 81, –њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 95, –њ—Г–љ–Ї—В 21 —Б—В–∞—В—М–Є 126 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—З–Є—Б–ї—П—О—В—Б—П –љ–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞ –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А—Г—О—В –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Г –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–∞ –і–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—Г–Љ–Љ—Л –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ –і–љ—П –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞.
–Я—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ь. —Б –С. –њ–Њ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞ –Њ—В 19 –Љ–∞—А—В–∞ 2018 –≥., –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—Г–і –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є—О –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –С. –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ.
–Ю—В–Ї–∞–Ј –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–Њ –і–љ—П –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ –Ь. –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—М –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –С. –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –і–Њ –і–љ—П –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –±–∞–љ–Ї—А–Њ—В—Б—В–≤–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 18-–Ъ–У24-242-–Ъ4
–°–£–Ф–Х–С–Э–Р–ѓ –Ъ–Ю–Ы–Ы–Х–У–Ш–ѓ
–Я–Ю –≠–Ъ–Ю–Э–Ю–Ь–Ш–І–Х–°–Ъ–Ш–Ь –°–Я–Ю–†–Р–Ь
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж–∞—Е
21. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ, –Ј–∞—П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–≥–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –±—А–µ–Љ—П –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б—Г–Љ–Љ—Г –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–Є–є –і–Њ–ї–µ–є —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 30 %, –њ–Њ–і–∞–ї –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 1 000 000 —А—Г–±. –Є –≤—Л–њ–ї–∞—З–µ–љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї—Г, –Ј–∞—П–≤–Є–≤—И–µ–Љ—Г –Њ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ –≤—Л–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є, –±—Л–≤—И–Є–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—З–µ—В–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–∞–љ—Б–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—А –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Є—Б—В—Ж—Г –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 22 349 000 —А—Г–±.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–°—Г–і—Л, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –Я–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —З–Є—Б—В—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–≤, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2014 –≥. вДЦ 84–љ, –Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Њ–± –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —З–Є—Б—В—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ —А—Л–љ–Њ—З–љ–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Њ—В—З–µ—В–љ—Г—О –і–∞—В—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 30 —А—Г–±.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 61 —Б—В–∞—В—М–Є 23 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 8 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1998 –≥. вДЦ 14-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є
–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О) –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є—В—М –≤—Л—И–µ–і—И–µ–Љ—Г –Є–Ј –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –і–Њ–ї–Є –≤ —Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ–Љ—Г—О –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Њ—В—З–µ—В–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –і–∞—В–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –і–Њ–ї–Є –≤—Л—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —З–∞—Б—В–Є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —З–Є—Б—В—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –µ–≥–Њ –і–Њ–ї–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–µ–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–µ.
–°—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–Є, –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї—Г –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ (—Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–µ) –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–°—Г–і –њ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞, –љ–µ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Є—Е —Б –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–± –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–∞—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞–≤—П—В –њ–Њ–і —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–∞ –Є—Б—В–µ—Ж –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –і–ї—П —Ж–µ–ї–µ–є —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є –≤ –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Г 305 199 570 —А—Г–±.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —Г—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞—Б—М. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –љ–µ–≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ —Н—В–∞ —Б–њ–Њ—А–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–∞–љ—Б–∞ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–∞–Ј–Љ–µ—А —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є.
–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —Ж–µ–ї–µ–є —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є –Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П —Г —Б—Г–і–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є, —Б—Г–і–∞–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ
–і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—О –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–і –Ї–Њ–љ—В—А–∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ, –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞.
–Ш–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—Г—В–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Њ –±—Л –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–Є–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ј–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М—О –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–Є –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –±—Л–ї –±—Л –ї–Є—И–µ–љ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 305-–≠–°24-23344
22. –Х—Б–ї–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Њ —Ж–µ–љ–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ, —В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 424 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –∞–Ї—Ж–Є–є –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ —Б—Г–і –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є- –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –∞–Ї—Ж–Є–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Ж–µ–љ—Л –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 240 000 000 —А—Г–±., —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –∞–Ї—Ж–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є —Ж–µ–љ—Л —Б–і–µ–ї–Ї–Є –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 424 –У–Ъ –†–§ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Ж–µ–љ–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –Њ–њ–ї–∞—З–µ–љ–Њ –њ–Њ —Ж–µ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–Љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤–Ј–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А—Л, —А–∞–±–Њ—В—Л –Є–ї–Є —Г—Б–ї—Г–≥–Є.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ—Л –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –∞–Ї—Ж–Є–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А—Л–љ–Њ—З–љ–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –∞–Ї—Ж–Є–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 1 —А—Г–±. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –∞–Ї—Ж–Є–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –∞–Ї—Ж–Є–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 1 —А—Г–±.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 485 –У–Ъ –†–§ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М —В–Њ–≤–∞—А –њ–Њ —Ж–µ–љ–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є, –ї–Є–±–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є,
–њ–Њ —Ж–µ–љ–µ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ–Љ–Њ–є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 424 –У–Ъ –†–§.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –∞–±–Ј–∞—Ж–µ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2018 –≥. вДЦ 49 ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–Є—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Є —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞¬ї, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –њ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—О –Њ —Ж–µ–љ–µ –Є–ї–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 424 –У–Ъ –†–§ –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є –і–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Њ —Ж–µ–љ–µ, –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є, –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –Є–ї–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Њ —Ж–µ–љ–µ –Є–ї–Є –Ј–∞—П–≤–Є–≤—И–∞—П –Њ –µ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –Є–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є–Ј –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—Г–і –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М —Ж–µ–љ—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 424 –У–Ъ –†–§, –µ—Б–ї–Є —Ж–µ–љ–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –љ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є. –°—Г–і —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 424 –У–Ъ –†–§, –µ—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Ж–µ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ —Б–і–µ–ї–Ї–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 1 —Б—В–∞—В—М–Є 160 –У–Ъ –†–§) –Є–ї–Є —Г—В—А–∞—З–µ–љ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї–∞–Ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 1 —Б—В–∞—В—М–Є 162 –У–Ъ –†–§).
–°—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є –Є –Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є —Ж–µ–љ–љ—Л—Е –±—Г–Љ–∞–≥, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ–µ—З–∞—В–∞—О—Й–Є—Е —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ (–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ) —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є- –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–Њ–Љ, –љ–µ —Г—З–µ–ї, —З—В–Њ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Ж–µ–љ—Л –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –∞–Ї—Ж–Є–є. –Ш—Б—В—Ж–Њ–Љ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –і–∞–љ–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞,
–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Ж–µ–љ–∞ —Б–і–µ–ї–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 240 000 000 —А—Г–±. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Є—Б—В–µ—Ж, –Њ–љ –Њ–њ–ї–∞—В–Є–ї —Г—Б–ї—Г–≥–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 650 000 —А—Г–±., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—В—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л —Б–і–µ–ї–Ї–Є.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ —Е–Њ–і–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –∞–Ї—Ж–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –∞–Ї—Ж–Є–є –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ, –Є –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Ж–µ–љ–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є —Ж–µ–љ–љ—Л—Е –±—Г–Љ–∞–≥ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ 240 000 000 —А—Г–±., —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 178, 179 –У–Ъ –†–§ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—О –∞–Ї—Ж–Є–є –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є, –Є—Б—В–µ—Ж –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–Њ–≤–Њ–і—Л –≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є —Ж–µ–љ—Л –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 240 000 000 —А—Г–±., —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ (—А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї, —Б—З–µ—В –Њ–± –Њ–њ–ї–∞—В–µ —Г—Б–ї—Г–≥ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞), —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–≠—В–Є–Љ –Є—Б—В–µ—Ж –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О —Д–∞–Ї—В–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Ж–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ (—З–∞—Б—В—М 1 —Б—В–∞—В—М–Є 9, —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 65, —З–∞—Б—В—М 31 —Б—В–∞—В—М–Є 70 –Р–Я–Ъ –†–§), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Є—Б—В—Ж–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П.
–Т –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 65, —Б—В–∞—В—М–Є 71 –Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 168 –Р–Я–Ъ –†–§ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –≤ –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–∞—Е.
–°—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –і–∞–љ–∞ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –њ—А–∞–≤–Њ–≤–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –Є—Б—В—Ж–∞ –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –µ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 305-–≠–°24-23156
23. –Э–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Њ—Б—М –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Д–∞–Ї—В–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П.
–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ —З–∞—Б—В–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є (–і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤).
–°—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ –±—Л–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є.
–°—Г–і –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Є—Б–Ї–∞. –°—Г–і –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Є—Е –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 671 –У–Ъ –†–§.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ —Б–Є–ї–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–∞–љ–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–Є–Љ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П —Г –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л.
–Ч–∞–Ї–Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –µ—Б–ї–Є —Б—Б—Л–ї–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –љ–∞ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–і–µ–ї–Ї–Є –ї–Є—Ж–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є –і–∞–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–Љ –ї–Є—Ж–∞–Љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М (–њ—Г–љ–Ї—В 5 —Б—В–∞—В—М–Є 166 –У–Ъ –†–§).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –ї–Є—Ж–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л–µ (–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–µ) –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є —Г –Є–љ—Л—Е –ї–Є—Ж, –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ —Б—Б—Л–ї–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М (–љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М) —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б–і–µ–ї–Ї–Є. –Ч–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П.
–≠—В–Њ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ–Њ –Ї –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ –њ—А–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є (–∞–±–Ј–∞—Ж —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 8 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О), –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –љ–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Є –µ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—В—М –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ—Л —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–ї–Є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є) —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–ї—О —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –±—Л–ї–Њ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–є, –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ –њ—А–Є–±—Л–ї—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —Г —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ—Л—Е –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–є.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ –Є—Б—В—Ж—Г –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –љ–µ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Њ –Њ —Д–∞–ї—М—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Є–≤–Є–і–µ–љ–і–Њ–≤ –Є –љ–µ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї–Њ —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –љ–∞ —В–µ—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–Њ—В–∞—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –і–µ–ї–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞.
–Т —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–Є—Ж–Њ –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В –Њ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤—Г –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –і–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –Є (–Є–ї–Є) –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Є–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —В–∞–Ї–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —Б—В–∞—В—М–Є 1, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 5 —Б—В–∞—В—М–Є 166 –У–Ъ –†–§ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 304-–≠–°24-23525
–°–њ–Њ—А—Л, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є
24. –°—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М —В–Њ—А–≥–Є –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 450 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 24 –Є—О–ї—П 2008 –≥. вДЦ 161-–§–Ч ¬Ђ–Ю —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–≥–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–∞—А–µ–љ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—М), –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М (–∞—А–µ–љ–і–∞—В–Њ—А) –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –∞—А–µ–љ–і—Г –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є.
–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –∞—А–µ–љ–і–∞—В–Њ—А, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ —Б—А–Њ–Ї –∞—А–µ–љ–і—Л –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ–Њ–і –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М 49 –ї–µ—В, –∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—А –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ –Є –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—В—М —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –∞—А–µ–љ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—О –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–є –Ї –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤–Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞ –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л.
–Р—А–µ–љ–і–∞—В–Њ—А, —Б—З–Є—В–∞—П –Њ—В–Ї–∞–Ј –∞—А–µ–љ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤.
–°—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї.
–°—Г–і—Л –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Ж–µ–љ–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е, –Є—Б—В–µ—Ж –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –∞—А–µ–љ–і—Л –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е. –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –∞—А–µ–љ–і–љ–∞—П –њ–ї–∞—В–∞ –Ј–∞ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Є—Б—З–Є—Б–ї—П—В—М—Б—П –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –і–ї—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–µ, –Ј–∞–љ—П—В–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –і–ї—П –Є—Е —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≤ –Є—Б–Ї–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–£—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О, –Ї–∞—Б–∞—О—Й—Г—О—Б—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –∞—А–µ–љ–і—Л –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –≤ —В–≤–µ—А–і–Њ–Љ, —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –і–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞.
–Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б—А–Њ–Ї–µ –∞—А–µ–љ–і—Л, –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞—Е, –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–∞ –і–Њ –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ –ї–Є—Ж, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤. –Ю–±—Й–Є–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –њ–ї–∞—В—Л –њ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ–Љ—Л–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ —В–Њ—А–≥–∞—Е.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–∞–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Ж–µ–љ–Њ–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —Н—В–Њ –љ–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—П–µ—В —Д–∞–Ї—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤.
–†–∞–Ј–Љ–µ—А –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –∞—А–µ–љ–і—Г –Ј–µ–Љ–ї–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В—М—О —Ж–µ–љ—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є.
–Я—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ —Б –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є, –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П.
–Я–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–љ–Њ—Б–Є—В—М –∞—А–µ–љ–і–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 8 —Б—В–∞—В—М–Є 448 –У–Ъ –†–§ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤, –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ—Л —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ —В–Њ—А–≥–∞—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Є–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ—Л –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ
–љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –њ—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞.
–Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А–µ–љ–і–∞—В–Њ—А–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 8 —Б—В–∞—В—М–Є 448 –У–Ъ –†–§ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤.
–Я–Њ —Б—Г—В–Є, –Є—Б—В–µ—Ж –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞/–∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –Є —Б—А–Њ–Ї–µ –∞—А–µ–љ–і—Л. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —Б–њ–Њ—А–∞ –њ–Њ –Є—Б–Ї—Г –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ—Г–љ–Ї—В 2 —Б—В–∞—В—М–Є 450 –У–Ъ –†–§.
–Я—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –Ї–∞–Ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї —В–Њ—А–≥–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є –Є –Њ —Б—А–Њ–Ї–µ –∞—А–µ–љ–і—Л –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –і–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –±—Л–ї –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ—Г—О –Є–ї–Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –≤ —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 449 –У–Ъ –†–§ –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —В–Њ—А–≥–Є –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б –љ–Є–Љ –њ–Њ –Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М, –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –Є –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –∞—А–µ–љ–і—Л –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Њ —Ж–µ–љ–µ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О.
–Ш–љ–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 8 —Б—В–∞—В—М–Є 448 –У–Ъ –†–§ –Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї —Ж–µ–љ—Л –љ–∞ —В–Њ—А–≥–∞—Е, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤, –Є —Б—В–∞–≤–Є—В –≤ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤.
–Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –њ–ї–∞—В—Л, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –∞—А–µ–љ–і—Л –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –≤–ї–µ—З–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ –Є–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Г –≤ –≤–Є–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, —З–µ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ –њ—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –∞—Г–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –∞—А–µ–љ–і–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л –≤ –Є—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –Ї—А—Г–≥ –ї–Є—Ж, –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ —В–Њ—А–≥–∞—Е, –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Є–љ—Л–Љ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 305-–≠–°23-20462
25. –Ч–∞—З–µ—В –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Њ –Њ –Ј–∞—З–µ—В–µ, –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ —Б—А–Њ–Ї –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є.
–°—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї—Г –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і–∞.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –°—Г–і—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є 410 –У–Ъ –†–§ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ –Ј–∞—З–µ—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Г—Й–µ—А–±–∞ —Б—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Л –і–Њ–ї–≥–∞ –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї—Г –і–∞–≤–∞–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Ј–∞—З–µ—В–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–ї.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Ж–µ–ї—П—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 410 –У–Ъ –†–§ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –Ј–∞—З–µ—В—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —В–∞–Ї–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞—З–µ—В–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л –≤ —Б—З–µ—В –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ (–≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞) –њ–Њ –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –Є –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М —Г—З–µ—В–∞ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –Ј–∞—З–µ—В—Г –Ї–Њ–љ—В—А–∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ —Б—Г–Љ–Љ—Л.
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ —Б—Г–і—Л –љ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–ї–Є—З–Є—П (–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П) –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞ –Ј–∞—З–µ—В–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –Ј–∞—З–µ—В—Г –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Ј–∞—З–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –≤ —З–∞—Б—В–Є —Б—Г–Љ–Љ—Л –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞, —В–∞–Ї –Є –≤ —З–∞—Б—В–Є —Б—Г–Љ–Љ—Л –і–Њ–ї–≥–∞ –Ј–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤.
–Т –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 65, —Б—В–∞—В—М–Є 71 –Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 168 –Р–Я–Ъ –†–§ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–∞—Е –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–і—Л —Б—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ –Ј–∞—З–µ—В–µ –љ–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П; –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Њ–Љ —Г—Й–µ—А–± –љ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ; –љ–∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —В—А–Є –њ–Њ–і—А—П–і–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞–Љ–Є –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –љ–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞, –љ–Є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–≤—И–µ–µ –≤—А–µ–і.
–°—Г–і–∞–Љ–Є –њ—А–Є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ –і–∞–љ–∞ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ —Б—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞ –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Ј–∞—З–µ—В–∞ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—Г–Љ–Љ, –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–∞—П –і–∞—В–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –і–∞—В–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–∞—З–µ—В–µ.
–°—Г–±–њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ –Ј–∞—З–µ—В–µ –Њ—В 2022 –≥–Њ–і–∞, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ—Л –≤ 2018 –≥–Њ–і—Г.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 18 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 11 –Є—О–љ—П 2020 –≥. вДЦ 6 ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤¬ї —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М–µ–є 411 –У–Ъ –†–§, –Ј–∞—З–µ—В –љ–µ –≤–ї–µ—З–µ—В —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Є—Б—В–µ–Ї —Б—А–Њ–Ї –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–∞—З–µ—В–µ, –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М –Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А—Г (–њ—Г–љ–Ї—В 3 —Б—В–∞—В—М–Є 199 –У–Ъ –†–§).
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї—Г –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Њ—В –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 305-–≠–°25-1730
26. –Ф–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї –≤–њ—А–∞–≤–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ –≤ —Б—З–µ—В –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –≤—Л–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В –љ–µ–≥–Њ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 319 –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ь–µ–ґ–і—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є —В–Њ–≤–∞—А–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Њ–њ–ї–∞—В—Л —В–Њ–≤–∞—А–∞ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б—А–Њ–Ї —Б—Г–Љ–Љ–∞ –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–і–Є—В–∞.
–Т–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞ —В–Њ–≤–∞—А–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї—Г –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ–њ–ї–∞—В—Л. –Т –њ–ї–∞—В–µ–ґ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–Є –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ–њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞¬ї.
–Я–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ–Љ –Є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З—Г–ґ–Є–Љ–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 395 –У–Ъ –†–§.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ —Б—Г–і –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 319 –У–Ъ –†–§.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є
—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ–Љ, –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤, –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 395 –У–Ъ –†–§, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ.
–°—Г–і—Л, –њ—А–Є–љ—П–≤ –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 3191 –У–Ъ –†–§ –Є —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М –≤ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –µ–≥–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г–і—Л —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ —Б—Г–Љ–Љ—Л.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–°—В–∞—В—М—П 319 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—А –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є) –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Г–Љ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–∞ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—О –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—О –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П (–њ–ї–∞—В–µ–ґ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї—Г), –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М вАУ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В—Л –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–Љ–Љ–Њ–є –Ј–∞–є–Љ–∞, –Ї—А–µ–і–Є—В–∞, –∞–≤–∞–љ—Б–∞, –њ—А–µ–і–Њ–њ–ї–∞—В—Л –Є —В. –і., –≤ —В—А–µ—В—М—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ –і–Њ–ї–≥–∞.
–Я—А–Њ—Ж–µ–љ—В—Л, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –Љ–µ—А–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 319 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–∞–Љ –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Є –њ–Њ–≥–∞—И–∞—О—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—Г–Љ–Љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞.
–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Б—В–∞—В—М–Є 3191 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –Ї –ї—О–±—Л–Љ –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–Љ –Ї–∞–Ї –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –Ю–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –Ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—З—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –≤–µ—Й–µ–є –Є–ї–Є –њ—А–∞–≤, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 3191 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–∞—И–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –і–Њ–ї–≥–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ—А–Њ–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–Љ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞ –њ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Ј–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 319 –У–Ъ –†–§.
–Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є–≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞, –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М –≤ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –њ–∞—А—В–Є—О —В–Њ–≤–∞—А–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–∞—И–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П,
–≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Г–њ–ї–∞—В–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ–і–Є—В, –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ–є 319 –У–Ъ –†–§.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ –љ–µ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–∞–Ї –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 319 –У–Ъ –†–§. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 3191 –У–Ъ –†–§ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–Њ–≤ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ–і–Є—В–Њ–Љ, –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞ —Б—Г–і—Л –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 319 –У–Ъ –†–§
–Њ–± –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–≥–∞—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 306-–≠–°24-22953
27. –Р–±–Њ–љ–µ–љ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞, –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—О—Й–µ–≥–Њ –Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ь–µ–ґ–і—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–µ–є (–∞–±–Њ–љ–µ–љ—В) –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –љ–∞ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –≤–Њ–і—Л –Є –њ—А–Є–µ–Љ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і. –Ъ–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є—П (–∞–±–Њ–љ–µ–љ—В) –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –љ–∞ 2020 –≥–Њ–і.
–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –∞–Ї—В (–і–∞–ї–µ–µ вАУ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ), –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї–Є —Б–љ–Є–ґ–µ–љ—Л –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ (–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ) –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —А–∞–љ–µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ –Э–°–°–Т, –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤—Л) –њ–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ.
–°–њ—Г—Б—В—П –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й—Г—О –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –љ–∞ 2020 –≥–Њ–і.
–°—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –љ–∞ 2020 –≥–Њ–і –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—В –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ –њ–ї–∞—В—Г –Ј–∞ —Б–±—А–Њ—Б –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–µ–є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і —Б –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–Њ–≤.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г –љ–µ –≤–љ–µ—Б–ї–∞, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–Љ.
–Я—А–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ.
–°—Г–і—Л –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤—Л —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –µ–≥–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є, –∞ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Є, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–µ–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ 2020 –≥–Њ–і.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ 124, 125, –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–±¬ї –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 128, –њ—Г–љ–Ї—В—Г 129 –Я—А–∞–≤–Є–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 29 –Є—О–ї—П 2013 –≥.
вДЦ 644 (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П), –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—П –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –њ–Њ–і–∞–µ—В—Б—П –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—П–Ј—Г–µ—В—Б—П —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і–∞—Е –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –Њ—В–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е (–њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –Ї –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–Є—О) –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, –∞ –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ –Њ—В –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –њ—А–Њ–± —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є –њ–Њ–і–∞–≤–∞–µ–Љ–∞—П –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—П –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є, –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –≤–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–∞, –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤–Њ–і–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ-–Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞, –Є–ї–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—З–љ—П –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і (–њ—Г–љ–Ї—В—Л 127, 1302 –Є 1303 –Я—А–∞–≤–Є–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П).
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–ї–Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –Э–°–°–Т –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 1303 –Я—А–∞–≤–Є–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —В—А–µ—Е–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —З–∞—Б—В–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ—З–љ—П –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Э–°–°–Т.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є
–њ–Њ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ (–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 195 –Я—А–∞–≤–Є–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –і–Њ –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є —А–∞—Б—З–µ—В –њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ —Б–±—А–Њ—Б –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і —Б–≤–µ—А—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Э–°–°–Т –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–є –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —В—А–µ—Е–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В—Г –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 129 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –њ—А–Њ–± —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –њ–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ –Є –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –њ–Њ–і–∞—В—М –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й—Г—О –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞—Е —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–µ—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Є –±—Л–ї–Є –ї–Є—И—М —Б–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ, —З—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –њ—А–Њ–± —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ.
–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –њ—Г–љ–Ї—В 129 –Я—А–∞–≤–Є–ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В—Г –њ—А–∞–≤–Њ –≤—Л–±—А–∞—В—М –њ—А–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –≤ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—О –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–є –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ –Њ—В –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –њ—А–Њ–± —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ 2 –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≥–Њ–і–∞, –∞–±–Њ–љ–µ–љ—В, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—П —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ –Є –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ—А–Є –њ–Њ–і–∞—З–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –Э–°–°–Т –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –≤ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і–∞—Е –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–∞–Ї–Є–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—Й–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 305-–≠–°24-20(2)
28. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–µ–є –Ї–≤–Њ—В –і–Њ–±—Л—З–Є (–≤—Л–ї–Њ–≤–∞) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–є —Б –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є, –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—О –Ј–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ.
–Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є (–љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є) –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–µ–є –Ї–≤–Њ—В
–і–Њ–±—Л—З–Є (–≤—Л–ї–Њ–≤–∞) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤—Г –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В—А–∞—Б–ї—П–Љ–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —Д–∞–Ї—В –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ—Г (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А) –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –і–Њ–±—Л—З–Є (–≤—Л–ї–Њ–≤–∞) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–µ–є –Ї–≤–Њ—В –і–Њ–±—Л—З–Є (–≤—Л–ї–Њ–≤–∞) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Є—Б—В—Ж–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –љ–∞—А—Г—И–∞—О—В –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –Є—Б–Ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ.
–Т –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –°—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–Ш–Ј –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 40 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –∞–њ—А–µ–ї—П 2008 –≥.
вДЦ 57-–§–Ч ¬Ђ–Ю –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–є –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 57-–§–Ч) —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –і–Њ–±—Л—З–∞ (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –≤–Є–і–∞–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–Т —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 11 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2004 –≥.
вДЦ 166-–§–Ч ¬Ђ–Ю —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤–µ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 166-–§–Ч) —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 8 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2001 –≥. вДЦ 129-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є¬ї –Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–∞ –Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –ї–Є—Ж, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Е–Њ–і–Є—В –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А, –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 11 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 166-–§–Ч.
–Ы–Є—Ж–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —З–∞—Б—В–Є 2 –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є, –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ вДЦ 57-–§–Ч (—З–∞—Б—В—М 3 —Б—В–∞—В—М–Є 11 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 166-–§–Ч). –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ (–њ—Г–љ–Ї—В 7 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 13 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 166-–§–Ч).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –ї–Є—Ж—Г, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г—Б—П –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–∞, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ
–≤ —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 11 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 166-–§–Ч –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–і —В–∞–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ вДЦ 57-–§–Ч, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—О –Ј–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ–≤–µ—Б—В–Є—Ж–Є–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–Ї–Є, –≤–ї–µ–Ї—Г—Й–µ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 168 –У–Ъ –†–§ —Б–і–µ–ї–Ї–∞, –љ–∞—А—Г—И–∞—О—Й–∞—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—О—Й–∞—П –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –ї–Є–±–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —В—А–µ—В—М–Є—Е –ї–Є—Ж, –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–∞, –µ—Б–ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б–і–µ–ї–Ї–∞ –Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ–∞ –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –Є–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–і–µ–ї–Ї–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, –і–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 75 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 23 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 25
¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ I —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —Б—В–∞—В—М—П–Љ 166 –Є 168 –У–Ъ –†–§ –њ–Њ–і –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞ –ї–Є—Ж, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—А–µ–і—Л. –°–і–µ–ї–Ї–∞, –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ —П–≤–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–њ—А–µ—В, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—П–≥–∞—О—Й–∞—П –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л.
–°—Г–і–∞–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –±—Г–і—Г—З–Є –њ–Њ–і–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А—Г, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –ї–Њ–ґ–љ—Г—О –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ј–∞—П–≤–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –∞–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ –њ–Њ —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤—Г –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –і–µ–ї–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–∞, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 166-–§–Ч –Є –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 57-–§–Ч –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ї–≤–Њ—В—Л –љ–∞ –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –≤–µ–ї–Є –Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–Њ—А—В, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—П –µ–і–Є–љ—Л–є –≤–Є–і —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ –і–Њ–±—Л—З–Є –Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е —Б–і–µ–ї–Њ–Ї –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 168 –У–Ъ –†–§ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—П–≥–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–£—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–≤–ї–µ—З—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ –љ–∞ –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ—А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ
–Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Ї–≤–Њ—В, –∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е —Б–і–µ–ї–Њ–Ї, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А—П–Љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –≤ —Б–Є–ї—Г –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–Є –Ї–≤–Њ—В –љ–∞ –і–Њ–±—Л—З—Г (–≤—Л–ї–Њ–≤) –≤–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л –Ј–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є (–љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є) —Б–і–µ–ї–Ї–∞–Љ–Є.
–Ф–µ–ї–Њ вДЦ –Р51-1301/2024
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞
29. –Ю—В–Ї–∞–Ј –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 12 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ (–њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М) –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї–Њ –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–∞ –Є –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞) –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 12 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–Ъ –†–§, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –ї–Є–љ–Є–є.
–°—З–Є—В–∞—П –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Ї –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Є –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –°—Г–і—Л –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є (–њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–µ–ґ–µ–≤–∞–љ–Є—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є), —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—В 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2010 –≥. –Ч–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –ї–Є–љ–Є–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ 2021 –≥–Њ–і—Г, —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ –і–ї—П –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 12 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–∞ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 262 –У–Ъ –†–§, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 12 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–Ъ –†–§, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 8 —Б—В–∞—В—М–Є 28 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2001 –≥. вДЦ 178-–§–Ч ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.
–Я–Њ–і –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 12 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–Ъ –†–§, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —З–∞—Б—В–љ—Г—О.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤—Л–±—Л–ї –Є–Ј –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ 2012 –≥–Њ–і—Г, —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г —З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞, —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ –њ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б–і–µ–ї–Ї–µ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є.
–Я—А–∞–≤–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–µ—Б—В—А –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–µ—Б—В—А–∞ (–њ—Г–љ–Ї—В—Л 1, 2 —Б—В–∞—В—М–Є 81 –У–Ъ –†–§).
–Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ. –Ы–Є—Ж–Њ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–µ–µ—Б—В—А–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞–≤–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—П, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≤ —А–µ–µ—Б—В—А –љ–µ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б—М –Њ–± –Є–љ–Њ–Љ; –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї—М –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–є—Б—П –њ—А–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–µ—Б—В—А–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ—Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ (—Б—В–∞—В—М–Є 234 –Є 302 –У–Ъ –†–§), –њ–Њ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–љ–∞—В—М –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Г –ї–Є—Ж–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ (–њ—Г–љ–Ї—В 6 —Б—В–∞—В—М–Є 81 –У–Ъ –†–§).
–Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ–Њ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ.
–Я–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Є–Ј –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —З–∞—Б—В–љ—Г—О –њ—А–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є- –њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ—Г–љ–Ї—В 12 —Б—В–∞—В—М–Є 85 –Ч–Ъ –†–§ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 309-–≠–°24-7383
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ–Ї —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В, —Г—Б–ї—Г–≥ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і
30. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 29 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 5 –∞–њ—А–µ–ї—П 2013 –≥.
вДЦ 44-–§–Ч ¬Ђ–Ю –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ–Ї —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В, —Г—Б–ї—Г–≥ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і¬ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤.
–•–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–∞—А—Г—И–Є–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 29, –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–∞¬ї –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 49 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 5 –∞–њ—А–µ–ї—П 2013 –≥. вДЦ 44-–§–Ч ¬Ђ–Ю –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ–Ї —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤, —А–∞–±–Њ—В, —Г—Б–ї—Г–≥ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 44-–§–Ч).
–Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ј–∞—П–≤–Њ–Ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 29 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞
вДЦ 44-–§–Ч. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤
¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –∞–і–∞–њ—В–∞—Ж–Є–Є –Є —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї) —Б –Ї–Њ–і–Њ–Љ –Ю–Ъ–Ю–У–£ 4220003 (—А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П).
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ—Л, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ.
–°—В–∞—В—М–µ–є 32 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 19 –Љ–∞—П 1995 –≥. вДЦ 82-–§–Ч
¬Ђ–Ю–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 82-–§–Ч) –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е, —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П (–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П) –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В —Б–≤–Њ—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П (–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П) —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–∞–≤–Њ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞—В—М —Б—В–∞—В—Г—Б —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –£—Б—В–∞–≤—Г –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Д–µ—А–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є вАУ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В —Б–≤–Њ—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –£—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Г—А–Њ–≤–љ–µ–≤–Њ–є –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –і–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 14 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞
вДЦ 82-–§–Ч. –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї (–µ–≥–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ –Є –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –љ–Є–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є (–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П), –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –µ–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї.
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В 16 —П–љ–≤–∞—А—П 2025 –≥. –њ–Њ –і–µ–ї—Г вДЦ –Р–Ъ–Я–Ш-96, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Њ—В 10 –Є—О–ї—П 2024 –≥. вДЦ –Ь–®/60841/24 ¬Ђ–Я–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 29 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 5 –∞–њ—А–µ–ї—П 2013 –≥. вДЦ 44-–§–Ч¬ї.
–°—Г–і–∞–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї –≤—Е–Њ–і–Є—В –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ю–Ю–Ю–Ш
¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –£—Б—В–∞–≤–∞ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—П—Б—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ –µ–µ –≤—Л—Б—И–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ю–Ю–Ю–Ш
¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –≤—Б–µ –њ—А–µ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–µ–є 29 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 44-–§–Ч –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Є –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤ —Б –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –≤ —Г—Б—В–∞–≤–љ—Л–є (—Б–Ї–ї–∞–і–Њ—З–љ—Л–є) –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–Ї–ї–∞–і –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –µ–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б –і–Њ–ї–µ–є —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 100 %. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ
–њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ю–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–Ю–°–Ґ–Р–†¬ї –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–Љ—Г –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —Ж–µ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В–Њ–≤, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–Њ–≤, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 29 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 44-–§–Ч.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 305-–≠–°25-2383
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞—Е –Є —Б–±–Њ—А–∞—Е
31. –°—Г–±—Б–Є–і–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—К—П—В–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –љ–µ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤, –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –њ–Њ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П.
–Ь–µ–ґ–і—Г –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 18972 –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Є–Ј —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј—К—П—В–Є–µ–Љ (–њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ) —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 24 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ–Њ 25 –∞–њ—А–µ–ї—П 2022 –≥., –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—П, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–∞—П –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–∞.
–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–є –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥—Г, —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –£–°–Э) —Б –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ ¬Ђ–і–Њ—Е–Њ–і—Л¬ї –њ–Њ —Б—В–∞–≤–Ї–µ 6 % –Ј–∞ 2022 –≥–Њ–і, –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 122 –Э–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ –Э–Ъ –†–§) –≤ –≤–Є–і–µ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —И—В—А–∞—Д–∞. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –і–Њ–љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –љ–∞–ї–Њ–≥ –њ–Њ –£–°–Э.
2 –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥. вДЦ 1897
¬Ђ–Ю–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Я—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–є –Є–Ј —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—К—П—В–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –љ–µ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –њ—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї¬ї (–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –љ–∞ –і–µ–љ—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є).
–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –і–Њ–љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—Г–Љ–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –Є —И—В—А–∞—Д–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤—Л–≤–Њ–і –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ –Ј–∞–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ–≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≤–Є–і–µ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–Є –Є–Ј —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 11 —Б—В–∞—В—М–Є 34614 –Э–Ъ –†–§ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –і–Њ—Е–Њ–і—Л, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 251 –Э–Ъ –†–§.
–Я–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 14 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 251 –Э–Ъ –†–§ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –љ–µ–≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Г—О –±–∞–Ј—Г –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –≤–Є–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ —Б —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Г—З–µ—В—Г –і–ї—П —Ж–µ–ї–µ–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ—Е–Њ–і–∞. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –і–Њ—Е–Њ–і –≤ –≤–Є–і–µ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 270 –Э–Ъ –†–§ (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 5 —Б—В–∞—В—М–Є 270 –Э–Ъ –†–§).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Г—З–µ—В—Г –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л, –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—П. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Г –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Г–њ–ї–∞—В–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П.
–Ш–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 14 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 251 –Є —Б—В–∞—В—М–µ–є 270 –Э–Ъ –†–§, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –µ–≥–Њ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –і–ї—П —Ж–µ–ї–µ–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 250 –Э–Ъ –†–§ –≤–љ–µ—А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Е–Њ–і–∞–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ—Е–Њ–і—Л –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —Г–њ–ї–∞—В–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г, —И—В—А–∞—Д–Њ–≤, –њ–µ–љ–µ–є –Є (–Є–ї–Є) –Є–љ—Л—Е —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–є –Ј–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Г–Љ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є —Г—Й–µ—А–±–∞.
–Ф–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—Г–Љ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є —Г—Й–µ—А–±–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В
–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л–≥–Њ–і—Л (—Б—В–∞—В—М—П 41 –Э–Ъ –†–§).
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –±—О–і–ґ–µ—В–∞ —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–Є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—О —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј—К—П—В–Є–µ–Љ (—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ) –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ–і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –і–Њ—Е–Њ–і –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П, –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –µ–Љ—Г —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –≥–ї–∞–≤ 25 –Є 262 –Э–Ъ –†–§.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—А—Г –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –њ–Њ –£–°–Э –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Г–±—Л—В–Ї–Њ–≤ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–љ–µ—А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Г —Б—Г–і–Њ–≤, –љ–µ –≤–ї–µ—З–µ—В –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤–љ–µ—А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–Є –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞.
–Т —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—О–і–ґ–µ—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–Є (–≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —Г—Й–µ—А–±–∞). –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–Њ–≤ —В—А–µ—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Г—О –±–∞–Ј—Г –њ—А–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –£–°–Э –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 310-–≠–°24-23706
32. –Я—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —И—В—А–∞—Д–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 123 –Э–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–ї—П –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –љ–∞ –і–Њ—Е–Њ–і—Л —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –њ—А–Є –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж–∞–Љ, —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О, –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є —Б—Г–Љ–Љ—Л –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ—Е–Њ–і.
–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ –њ–Њ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–Љ –≤–Ј–љ–Њ—Б–∞–Љ –Є –љ–∞–ї–Њ–≥—Г –љ–∞ –і–Њ—Е–Њ–і—Л —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ –Э–Ф–§–Ы) –Ј–∞ 2021 –≥–Њ–і –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—О –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–µ –≤–Ј–љ–Њ—Б—Л, –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ —И—В—А–∞—Д –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 3 —Б—В–∞—В—М–Є 122 –Э–Ъ –†–§, –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –Э–Ф–§–Ы –Ї–∞–Ї –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–Љ—Г –∞–≥–µ–љ—В—Г –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ —И—В—А–∞—Д –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 123 –Э–Ъ –†–§ –Ј–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–µ –љ–µ—Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –Є –љ–µ–њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –Э–Ф–§–Ы.
–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—О –≤ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ–Љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Г—Б–ї—Г–≥–Є —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–ї–Њ–≥ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ—Е–Њ–і (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Э–Я–Ф) —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б –љ–Є–Љ–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Л —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Є –Э–Ф–§–Ы.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Є—Е –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ: –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П –Э–Ф–§–Ы –Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —И—В—А–∞—Д–∞ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 123 –Э–Ъ –†–§.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–°—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 123 –Э–Ъ –†–§, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–є –∞–≥–µ–љ—В, –∞ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –Є –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О –Э–Ф–§–Ы –≤ –±—О–і–ґ–µ—В (–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 226 –Э–Ъ –†–§).
–®—В—А–∞—Д –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 123 –Э–Ъ –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≥–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤: –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О —Б—Г–Љ–Љ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Г–њ–ї–∞—В–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –љ–µ–Њ—В–і–µ–ї–Є–Љ–∞ –Њ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –µ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–µ–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–Љ–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б—З–Є—Б–ї–Є—В—М —Б—Г–Љ–Љ—Г –і–Њ—Е–Њ–і–∞ –Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О —Г–њ–ї–∞—В–µ —Б—Г–Љ–Љ—Г –љ–∞–ї–Њ–≥–∞.
–°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–∞–Ј–Љ–µ—А —И—В—А–∞—Д–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 123 –Э–Ъ –†–§, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В —Б—Г–Љ–Љ—Л, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –Є (–Є–ї–Є) –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ –±—О–і–ґ–µ—В, –∞ –љ–µ –Њ—В –љ–µ—Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ—Л –љ–∞–ї–Њ–≥–∞.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —И—В—А–∞—Д, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –≤ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—О –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –љ–∞ –і–Њ—Е–Њ–і—Л —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж, –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –љ–∞ —Б—Г–Љ–Љ—Л —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є вАУ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Э–Я–Ф, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Э–Я–Ф –≤ –±—О–і–ґ–µ—В–µ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≥–µ–љ—В–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –њ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Њ–±—Е–Њ–і –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –љ–∞ —Г–њ–ї–∞—В–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –Љ–Є–љ–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є —Г–њ–ї–∞—В–µ –Э–Ф–§–Ы, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ.
–Я–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –њ—А–∞–≤ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—Ж–Є—П –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ (–њ—А–Є–±—Л–ї–Є) –≥—А—Г–њ–њ—Л –ї–Є—Ж, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–љ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—Ж–Є—П –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤, —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –µ—Б–ї–Є –±—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ–Љ—Л–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї –љ–∞–ї–Њ–≥ –≤ –±—О–і–ґ–µ—В –Ј–∞ –њ–Њ–і–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л—Е –µ–Љ—Г –ї–Є—Ж.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–µ—А–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О –±–Є–Ј–љ–µ—Б–∞ –ї–Є–±–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—О –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П –Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. –Э–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–є –∞–≥–µ–љ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≤—Л–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ—Е–Њ–і–∞ (–Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л) —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г вАУ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ –Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–≤—И–Є–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б—Е–µ–Љ–µ ¬Ђ–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –±–Є–Ј–љ–µ—Б–∞¬ї. –°—Г–Љ–Љ—Л –љ–∞–ї–Њ–≥–∞, —Г–њ–ї–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є, –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–Є–Љ–Є –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л–є —А–µ–ґ–Є–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 27 –љ–Њ—П–±—А—П 2018 –≥.
вДЦ 422-–§–Ч ¬Ђ–Ю –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ ¬Ђ–Э–∞–ї–Њ–≥ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ—Е–Њ–і¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ
вДЦ 422-–§–Ч), –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є–Љ–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—З–µ—В –Њ–њ–ї–∞—В—Л —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ (—А–∞–±–Њ—В, —Г—Б–ї—Г–≥, –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤), –Є–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–≤–Њ–і–∞ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є (—Б—В–∞—В—М—П 8 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 422-–§–Ч).
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–∞—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞—В–∞ (–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–ї—М–і–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—З–µ—В–∞) –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞—В–∞ –љ–∞–ї–Њ–≥–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—З—В–µ–љ–∞ –≤ —Б—З–µ—В —Г–њ–ї–∞—В—Л –Э–Ф–§–Ы –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –Э–Я–Ф, —З—В–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–њ–ї–∞—В–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В—М—Б—П –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ–Њ–є –≤ —Б—З–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≥–µ–љ—В–∞.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —И—В—А–∞—Д –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 123 –Э–Ъ –†–§ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –±–µ–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —И—В—А–∞—Д–∞ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 123 –Э–Ъ –†–§ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —И—В—А–∞—Д–∞ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —Б—В–∞—В—М–Є 123 –Э–Ъ –†–§, –≤ —З–∞—Б—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ –і–Њ–љ–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –Э–Ф–§–Ы –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 309-–≠–°24-20306
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞
–Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е
33. –Я—А–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –≤—Б—О —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.11 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.211 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ –Ъ–Њ–Р–Я –†–§) –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –Ј–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ (–Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ–Њ–≥–Њ) —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞—Б—Б—Л —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є, –љ–∞ –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ 10, –љ–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 20 %.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –≤ —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.11 –Є —Б—В–∞—В—М–Є 3.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є: –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ; –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞), –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П; –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 4.11 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§; –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–і–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О –ї—О–і–µ–є, –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і–µ, –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П (–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л) –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Г–≥—А–Њ–Ј—Л —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—Й–µ—А–±.
–Ю–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–∞—Ж–Є–µ–є —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤—А–µ–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О –ї—О–і–µ–є, –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і–µ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ
—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Є–Ј –Х–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–µ—Б—В—А–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є ¬Ђ–Љ–Є–Ї—А–Њ–њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ¬ї, —Б—Г–і—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –≤–Є–і –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ —И—В—А–∞—Д–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ, –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –њ—А–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ–њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А–≥–∞–љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –і–∞–≤–∞—В—М –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –≤—Б–µ–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.11 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.11 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ —Г—З–µ–ї –Є –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –≤—Б–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞, –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є
¬Ђ–Љ–Є–Ї—А–Њ–њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ¬ї –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ —И—В—А–∞—Д–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б 25 –Є—О–ї—П 2022 –≥. –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.11 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –≤–Є–і–∞–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є.
–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞), –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ
¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М (–љ–∞–і–Ј–Њ—А)¬ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—П –µ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 31 –Є—О–ї—П 2020 –≥. вДЦ 248-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–µ) –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—Й–Є–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Л –Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞), –µ–і–Є–љ—Л–µ –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —Б—Д–µ—А –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞) —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Є–љ—Л–Љ–Є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –∞–Ї—В–∞–Љ–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞). –Т —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤ —Д–∞–Ї—В –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞), —Б—Г–і—Л –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞) –Њ–љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ –і–∞–љ–љ—Л–є –≤–Є–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Є –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б—В–∞—В—М—П 12.211 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –≤ –≥–ї–∞–≤—Г 12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§
¬Ђ–Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї, –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Є–ї–Є –±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ—А–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —Г –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞
–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є—П –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –і–µ–ї –Њ–± –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–∞–Љ (–њ—Г–љ–Ї—В 33 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 24 –Љ–∞—А—В–∞ 2005 –≥. вДЦ 5
¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є—Е —Г —Б—Г–і–Њ–≤ –њ—А–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е¬ї).
–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і—Б—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є—О –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –°—Г–і –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –∞–±–Ј–∞—Ж—Г –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 34 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 30 –Є—О–љ—П 2020 –≥. вДЦ 13 ¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Р—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 30 –Є—О–љ—П 2020 –≥. вДЦ 13) –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і—Б—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ—Л –ї–Є—Ж–Њ–Љ, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤ –і–µ–ї–µ –Є –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П, –ї–Є—И—М –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –≤ —Б—Г–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Т –∞–±–Ј–∞—Ж–µ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 34 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Њ—В 30 –Є—О–љ—П 2020 –≥.
вДЦ 13 —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і—Б—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –ї–Є—Ж–∞, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ (–њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ) –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М–µ–є 4.11 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 306-–≠–°24-24609
–Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л
34. –°—Г–і –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ, –ї–Є–±–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.
–Ь–µ–ґ–і—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ–і—А—П–і–∞ –љ–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ–Њ–є –Є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є. –°—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–ї–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –Њ–± –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞
–Ј–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В –Є –њ–µ–љ–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 0,1 % –Њ—В —Ж–µ–љ—Л –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—А–Њ—З–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –і–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –°—В–Њ—А–Њ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤—Б–µ —Б–њ–Њ—А—Л –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –≤ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–Њ–Љ —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –µ–Љ—Г –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—О, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Г–њ–ї–∞—В—Л –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є.
–Ю—В–Ї–∞–Ј –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–Є–ї—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –≤ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і —Б –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї–∞ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–і—А—П–і—З–Є–Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞, –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 2 —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 239 –Р–Я–Ъ –†–§ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –µ—Б–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –љ–Њ –љ–µ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ (–Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ) –њ—А–∞–≤–∞. –Р—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤, —З—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–∞—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —П–≤–љ–Њ–є –љ–µ—Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ, –ї–Є–±–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г (—З–∞—Б—В—М 4 —Б—В–∞—В—М–Є 238 –Р–Я–Ъ –†–§).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Ј —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Р–Я–Ъ –†–§ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.
–Т —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Є—Б—В–µ—Ж –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–∞ —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –Њ –љ–µ—Б–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ—Л —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Є –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ—Л —Б –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є. –Ф–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –љ–µ –±—Л–ї–Є.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б—Г–і—Л, —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –≤—Л–і–∞—З–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ, –љ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –≤–Ј–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –µ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–Љ–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—А—Г—И–∞—О—Й–Є–Љ–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –і–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є—Б—В—Ж–∞ —Б—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –љ–µ–Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤.
–°—Г–і—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –±–µ–Ј –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—А–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Њ—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л –Є –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і. –Ю—В–≤–µ—В—З–Є–Ї –±—Л–ї –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ —Б –µ–≥–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є –Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–µ –Ј–∞–Ї—Г–њ–Ї–Є, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–Љ (—В–Є–њ–Њ–≤—Л–Љ) –і–ї—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б—Г–і–µ–±–љ–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А—Г—О—Й—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Є –љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л–≥–Њ–і—Л.
–Ґ—А–µ—В–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є–Ї–Є —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 333 –У–Ъ –†–§ –Є, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –±–∞–ї–∞–љ—Б –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ–є –Ї –љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї—О –Љ–µ—А–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Њ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Г—Й–µ—А–±–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 304-–≠–°24-24514
–°–£–Ф–Х–С–Э–Р–ѓ –Ъ–Ю–Ы–Ы–Х–У–Ш–ѓ –Я–Ю –£–У–Ю–Ы–Ю–Т–Э–Ђ–Ь –Ф–Х–Ы–Р–Ь
–Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є
35. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–Є—Ж–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –Њ–±–Љ–∞–љ–∞, –љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М (–њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є—В—М) –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г, —Б–Њ–і–µ—П–љ–љ–Њ–µ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Т–µ—А—Е–љ–µ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –І–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В 25 —П–љ–≤–∞—А—П 2022 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –°., –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 159 –£–Ъ –†–§ (–≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –Я., –°.–£., –Ь.).
–Ф–µ–ї–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –°. —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –°. –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Є –Њ —Б–Љ—П–≥—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 23 –Љ–∞—П 2023 –≥., –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—И–ї–∞ –Ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ—А–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°. 31 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –Я. –Є –Ь., —Б—Г–і —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –°. –њ—Г—В–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–Њ—А–∞ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞ –і–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї—Б—П –і–Њ –Я. –Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –µ–є, —З—В–Њ –µ–µ —Б–≤–∞—В –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Ф–Ґ–Я –Є –љ—Г–ґ–љ—Л –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 15 000 —А—Г–±. –і–ї—П —Г—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –°. –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –њ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–Љ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Я. –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –°. –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–є –Ь. –Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –µ–µ —Б—Л–љ–Њ–Љ, —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Ф–Ґ–Я –Є –љ—Г–ґ–љ—Л –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 15 000 —А—Г–±. –і–ї—П —Г—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ф–Ґ–Я. –Ф–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –°. –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –њ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–Љ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ь. –≤ —Е–Њ–і–µ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М.
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П –°. –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–є –°.–£., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є–ї–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г 15 000 —А—Г–±., –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 159 –£–Ъ –†–§.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ, —П–≤–ї—П—П—Б—М –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Д–Њ—А–Љ —Е–Є—Й–µ–љ–Є—П —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ
–њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –≤ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –ї–Є—Ж –Є –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М (–≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞) –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є–ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В—М—Б—П –Є–Љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –°. –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –Я. –Є –Ь. –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –њ–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–Љ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–µ –њ–Њ–љ—П–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Є—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –і–µ–љ—М–≥–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-–Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –°., –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Б—Г–і–Њ–Љ.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –°., —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Я. –Є –Ь., –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –њ–µ—А–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 159 –£–Ъ –†–§ –љ–∞ —З–∞—Б—В—М 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В—М 2 —Б—В–∞—В—М–Є 159 –£–Ъ –†–§ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–Љ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 48-–£–Ф23-15-–Ъ7
36. –Ю –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е —Г–Љ—Л—Б–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ–Њ–і—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В –і–ї—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞—Б–ї–Њ–µ–љ–Є—П –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Д–∞–Ї—В –Є–Ј—К—П—В–Є—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 25 –љ–Њ—П–±—А—П 2021 –≥. (—Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є) –Ф., –Ы., –Ъ. –Є –Я. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ—Л, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±–∞—Е –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Я. –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Б –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ вАУ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–≤–Њ–і–∞ –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 28 –Є—О–љ—П 2023 –≥., –Њ—В–≤–µ—З–∞—П –љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Г–Љ—Л—Б–ї–∞ —Г –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –Њ —З–µ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ–і—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В –і–ї—П –Њ–±—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј—К—П—В–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ
–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤ –Є –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –і–µ–ї—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞—Б–ї–Њ–µ–љ–Є—П –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ вАУ –Љ–µ—Д–µ–і—А–Њ–љ.
–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –Ф. –Є –Ы. –≤ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ–Є –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є –±—Л–ї –Є–Ј—К—П—В –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—Д–µ–і—А–Њ–љ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 795,868 –≥ –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ—А–µ–Ї—Г—А—Б–Њ—А—Л –њ—Б–Є—Е–Њ—В—А–Њ–њ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 2960,74 –≥ –Є –њ—А–µ–Ї—Г—А—Б–Њ—А—Л –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 75 498,09 –≥, –∞ –њ—А–Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –Ъ. –Є –Я. –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Є –Є–Ј—К—П—В—Л –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–Њ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Љ–µ—Д–µ–і—А–Њ–љ, –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 15 827 –≥ –Є –њ—А–µ–Ї—Г—А—Б–Њ—А –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–±—Й–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 1585,32 –≥.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –±—Л—В–Њ–≤–Ї–Є, –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є, —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —А–µ–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Ї–Њ–ї–±, —Б—Г—И–Є–ї—М–љ—Л—Е —И–Ї–∞—Д–Њ–≤, —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Є –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ вАУ –Љ–µ—Д–µ–і—А–Њ–љ–∞ –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–Ї—Г—А—Б–Њ—А–Њ–≤ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–Ї—Г—А—Б–Њ—А–Њ–≤ –њ—Б–Є—Е–Њ—В—А–Њ–њ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤, —Б—Г–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Л —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.
–Ф–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ —Б—Г–і–∞—Е –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 35-–£–Ф23-11-–Р1
37. –Ъ–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –ї–Є—Ж–∞ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 285 –Є 292 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–ї–Њ–≥—Г –љ–µ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –і–µ—П–љ–Є–є –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –ѓ–ї—Г—В–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В 11 –Љ–∞—П 2022 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –Ъ., —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ–∞—П, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 285 –£–Ъ –†–§ –Ї —И—В—А–∞—Д—Г –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 000 —А—Г–±. —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 47 –£–Ъ –†–§ –њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є
–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ –Є —Г—Б–ї—Г–≥, —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 2 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 292 –£–Ъ –†–§ –Ї —И—В—А–∞—Д—Г –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 300 000 —А—Г–±. —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 47 –£–Ъ –†–§ –њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ –Є —Г—Б–ї—Г–≥, —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 2 –≥–Њ–і–∞.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ—Г—В–µ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Ъ. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ —И—В—А–∞—Д–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 325 000 —А—Г–±. —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 47 –£–Ъ –†–§ –њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Л–љ–Ї–∞ –Є —Г—Б–ї—Г–≥, —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 2 –≥–Њ–і–∞ 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Ъ. –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—О –µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 285 –£–Ъ –†–§.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 21 –Є—О–љ—П 2023 –≥. –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞.
–Ш–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б—Г–і–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Ъ., —П–≤–ї—П—П—Б—М –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ- —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ –љ–∞–і–Ј–Њ—А—Г –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б–њ–Њ—В—А–µ–±–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞ –њ–Њ –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є), –≤ —Е–Њ–і–µ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ч. –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–љ–µ—Б–µ—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ-—Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ъ. –±–µ–Ј —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л–µ–Ј–і–∞ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ч. –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –∞–Ї—В —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ-—Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–љ–µ—Б–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —П–Ї–Њ–±—Л –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ —Д–∞–Ї—В–∞—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Ч. —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ- —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Њ–љ–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–љ–µ—Б–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ф–∞–ї–µ–µ –Ъ. —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ч. –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 6.3 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–≤ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б–њ–Њ—В—А–µ–±–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞ –њ–Њ –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –≤ –ѓ–ї—Г—В–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г. –Я–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞ –Ч. –±—Л–ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 6.3
–Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –µ–Љ—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 5 —Б—Г—В–Њ–Ї.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 292 –£–Ъ –†–§ –Ї–∞–Ї —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є –њ–Њ–і–ї–Њ–≥, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –і–µ—П–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –Є–Ј –Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ–Њ–є –Є –Є–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ–є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї—И–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 285 –£–Ъ –†–§ –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –і–µ—П–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –Є–Ј –Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ–Њ–є –Є –Є–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ–є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Є –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–Т –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Љ–Њ—В–Є–≤ –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –±–µ–Ј —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –ї–Є—И—М –њ—А–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–є –њ–Њ–і–ї–Њ–≥ –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –і–µ—П–љ–Є–є –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, —З—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ
17 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 16 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2009 –≥. вДЦ 19 ¬Ђ–Ю —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Њ –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –Є –Њ –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є¬ї.
–Т –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б—В–∞—В–µ–є 38928, 40114 –£–Я–Ъ –†–§ –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ґ—О–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 30 –Є—О–љ—П 2022 –≥. –Є –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –Є—Е —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–∞, —Ж–µ–ї–Є –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 89-–£–Ф23-7-–Ъ7
–Э–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П
38. –° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –µ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 111 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї —В—П–ґ–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ —Н—В–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 5 –ї–µ—В.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –І—Г—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Я–µ—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Њ—В 27 –Љ–∞—П 2022 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –®., —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ–∞—П, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 111 –£–Ъ –†–§ –Ї 3 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М —Б –®. –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –®.–Т. 1 000 000 —А—Г–±. –≤ —Б—З–µ—В –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 2 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®. –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ—Л: –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –≤ 2021 –≥–Њ–і—Г¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ
¬Ђ–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г¬ї. –Т –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –°. –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®. —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –µ–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —Г—З—В–µ–љ—Л –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤–ї–Є—П—О—Й–Є–µ –љ–∞ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–µ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—Г–і–∞ –®. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≤ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є —В—П–ґ–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О –®.–Р., –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї—И–µ–≥–Њ –њ–Њ –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Љ–µ—А—В—М –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ. –Я—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –њ—А–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е.
–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 27 –њ–Њ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2021 –≥. –≤ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ—З–≤–µ –ї–Є—З–љ—Л—Е –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Є —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –®. –Є –µ–µ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –®.–Р. –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є —Б—Б–Њ—А—Л, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г –®. –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї —Г–Љ—Л—Б–µ–ї –љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ —В—П–ґ–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О –®.–Р., –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–Њ–ґ–∞, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –†–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—П —Г–Љ—Л—Б–µ–ї, –®. –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–±–Њ—О–і–љ–Њ–є —Б—Б–Њ—А—Л —Б –®.–Р., –±—Г–і—Г—З–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—М—П–љ–µ–љ–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ –і–Њ–Љ–∞, –≤–Ј—П–ї–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ –љ–Њ–ґ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ- –±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П —В—П–ґ–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—О –®.–Р. –Є –ґ–µ–ї–∞—П –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–∞–љ–µ—Б–ї–∞ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –љ–Њ–ґ–Њ–Љ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –≥—А—Г–і–Є —Б–њ—А–∞–≤–∞, –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–≤ –µ–Љ—Г —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ—Г—В —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П.
–°—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–≥¬ї, ¬Ђ–Ј¬ї, ¬Ђ–Є¬ї –Є ¬Ђ–Ї¬ї —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 61 –Є —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 61 –£–Ъ –†–§ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞: —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤–Є–љ—Л, —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ–і–µ—П–љ–љ–Њ–Љ, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ, —П–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –®., —П–≤–Ї–∞ —Б –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ–є, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –®.–Р. –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П (–њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –і–µ–ї–∞—В—М –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і—Л—Е–∞–љ–Є–µ –Є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ —Б–Ї–Њ—А—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–є,
–Ї–∞–Ї –Є–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ј–∞–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –≤—А–µ–і–∞, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–є –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В—Л. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–≤¬ї —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 61 –£–Ъ –†–§ —Б—Г–і –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –®. –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞.
–Ю–±—Б—Г–і–Є–≤ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥. –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ —Б—Г–і –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—Б—А–Њ—З–Є—В—М –ї–Є—Ж—Г —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –і–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ–µ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –і–∞–љ–љ–∞—П –љ–Њ—А–Љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –љ–µ–є –ї–Є—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї —Б–≤—Л—И–µ 5 –ї–µ—В –Ј–∞ —В—П–ґ–Ї–Є–µ –Є –Њ—Б–Њ–±–Њ —В—П–ґ–Ї–Є–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є.
–†–µ—И–∞—П –њ—А–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ –ї–Є—Ж–∞–Љ, —Б—Г–і –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Є –Є–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –ї–Є—Ж–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є, —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –љ–µ–≥–Њ –ґ–Є–ї—М—П –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–ї—П –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –ї–Є–±–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г.
–Ъ–∞–Ї —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –®. –Є–Љ–µ–µ—В —В—А–Њ–Є—Е –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є вАУ 13 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2013 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, 7 –∞–њ—А–µ–ї—П 2015 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П
–Є 11 –љ–Њ—П–±—А—П 2021 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –®. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 111 –£–Ъ –†–§ –Ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ—Л –Ї –®. –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.
–°—Г–і, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –®. –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –µ–µ –і–µ—В—М–Љ–Є —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –≤ –µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Г—З–µ—В –≤—Б–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б—Г–і –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§, —Б—Г–і, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –љ–µ –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –і–∞–љ–љ—Л–µ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О –®.
–Ш–Ј –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –®. –Ј–∞—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–∞ —В—А–Њ–Є—Е –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–∞, —Г–і–µ–ї—П–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–µ—В—П–Љ, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї –љ–Є–Љ —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –і–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–Љ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–µ.
–Я–Њ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –®. —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б—Г–і—М–±–µ —В—А–Њ–Є—Е –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –®., –Љ–ї–∞–і—И–µ–Љ—Г –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ —И–µ—Б—В—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.
–°–Њ–≥–ї–∞—И–∞—П—Б—М —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®. —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–∞ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В —Ж–µ–ї–µ–є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є. –°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—Г–і–∞.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞—Б—М.
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ —Б–µ–Љ—М–Є –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є.
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –і–Њ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –љ–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Б–µ–Љ—М–Є –Є –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е, –∞ –љ–µ –љ–∞ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–µ–є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 43 –£–Ъ –†–§, –љ–∞ —З—В–Њ —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —З–∞—Б—В—М 2 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ—В—Б—А–Њ—З–µ–љ–Њ, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є–ї–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Г–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М—Б—П –Њ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—О —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ј–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ.
–Ґ–∞–Ї–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –†–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р—Б—Б–∞–Љ–±–ї–µ–Є –Ю–Ю–Э 65/229 –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2010 –≥. –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ю–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Э–∞—Ж–Є–є, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Б –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ–Є-–Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –Љ–µ—А –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–ї—П
–ґ–µ–љ—Й–Є–љ-–њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–Є—В–µ–ї–µ–є, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л (–С–∞–љ–≥–Ї–Њ–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞), —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г—О—В –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –±–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –љ–∞ –Є–ґ–і–Є–≤–µ–љ–Є–Є, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В—П–ґ–Ї–Є–Љ –Є–ї–Є –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –µ—Б–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Г—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є–ї–Є –і–µ—В–µ–є –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Г—Е–Њ–і–∞ –Ј–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є (–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ 64).
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—В –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—О —В–∞–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –±–µ–Ј –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є –Њ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Є –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–Я—А–Є –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–µ –Њ—В –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –Є —В–∞–Ї–∞—П —Ж–µ–ї—М –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§3, –µ—Б–ї–Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, —Б—Г–і –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –µ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞—В—М–µ–є 70 –£–Ъ –†–§.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Ј —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П, –њ—А–Є–і–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –µ—Б–ї–Є —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –ї–Є–±–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Є–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–Є –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–∞–≤—А–µ–і–Є—В—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –ї–Є–±–Њ –≤ –Є–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≤ —Б–Є–ї—Г –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—В–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§, –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–∞ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–µ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –µ–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Њ–Љ, –∞ –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—Г–і–∞, —Б–і–µ–ї–∞–љ –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—Г –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В—Б—А–Њ—З–Ї–µ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є.
–°—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Я–µ—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥. –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ
3 –Т —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П.
—Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 2 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥. –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞, —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—Г–і –≤ –Є–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ4.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 44-–£–Ф23-17-–Ъ7
39. –Х—Б–ї–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –Ї–∞–Ї –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ —Б—Г–і—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Т–Є–ї—О—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Њ—В 23 –Љ–∞—П 2022 –≥. –•. (—А–∞–љ–µ–µ —Б—Г–і–Є–Љ—Л–є 14 –Љ–∞—П 2020 –≥. –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 134, —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 135 –£–Ъ –†–§ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –Ї 3 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л) –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–∞¬ї —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 131 –£–Ъ –†–§ –Ї 8 –≥–Њ–і–∞–Љ 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ 8 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–∞¬ї —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 132 –£–Ъ –†–§ –Ї 8 –≥–Њ–і–∞–Љ 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ 8 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –њ—Г—В–µ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –•. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ 9 –ї–µ—В 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ 1 –≥–Њ–і.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –њ—Г—В–µ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ –Т–Є–ї—О—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Њ—В 14 –Љ–∞—П 2020 –≥. –Є –Њ—В 23 –Љ–∞—П 2022 –≥. –•. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ 11 –ї–µ—В 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ 1 –≥–Њ–і —Б –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 53 –£–Ъ –†–§ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –•. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П: –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—П—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—В—М –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–µ–Ј —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–і–Ј–Њ—А –Ј–∞ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, —Б –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –і–ї—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж.
4 –Р–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Я–µ—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 1 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®. –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є 82 –£–Ъ –†–§ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 3 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В—Б—А–Њ—З–µ–љ–Њ –і–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –µ–µ –і–µ—В—М–Љ–Є —З–µ—В—Л—А–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞.
–Р–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 2 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Ф–µ–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 21 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2023 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –•. –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –Є —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—Г–і —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г—З—В–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Њ—В 14 –Љ–∞—П 2020 –≥. –•. –љ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 21 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2023 –≥. —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А, –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞, –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–≤ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –Є —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ —Б—В–∞—В–µ–є 299, 307 –Є 308 –£–Я–Ъ –†–§ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П. –Т —А–µ–Ј–Њ–ї—О—В–Є–≤–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–Є–і –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–µ—А—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О –Њ—В–±—Л—В–Є—О –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—В–µ–є 69вАУ72 –£–Ъ –†–§. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 12 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 308 –£–Я–Ъ –†–§, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і–ї—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 45 –£–Ъ –†–§.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 53 –£–Ъ –†–§, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –Є —З–∞—Б—В–Є 5
—Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б—А–Њ–Ї –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—В—М –љ–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Б—Г–і –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Є–Ј —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –•. –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 60-–£–Ф–Я23-3-–Ъ9
40. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –Љ–Њ—В–Є–≤—Л, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б—Г–і—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—Й–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—Г–і–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –®., —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ—Л–є, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј–Љ–µ–љ—Г –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 275 –£–Ъ –†–§ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§ –Ї 5 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї 1 –≥–Њ–і —Б –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ. –°–≤–Њ—О –њ—А–Њ—Б—М–±—Г –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§. –Р–≤—В–Њ—А –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§ –Є –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞—О—В —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.
–Т—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ–± –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –®. —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—О –Є —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А —Б—З–Є—В–∞–ї –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ.
–£—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П –Њ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –∞–≤—В–Њ—А –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –®. —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М, –њ—А–Є—З–Є–љ—П—П —Г—Й–µ—А–± –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ—О—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –Є–Љ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –°–Є–ї–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—В–µ—В–∞, —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ. –Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –®.
–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—О –Є —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤–Є–љ—Л –Є —А–∞—Б–Ї–∞—П–љ–Є–µ, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В.
–Ю—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—П —Н—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З–µ–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є. –°—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–і–µ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ —Б—Г–і –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–ї–Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.
–Ю—В–≤–µ—А–≥–∞—П –і–Њ–≤–Њ–і—Л –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г—З–µ–ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 7 –£–Я–Ъ –†–§ –Њ–± –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 7 —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 38928 –£–Я–Ъ –†–§, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—П –Є –љ–µ –і–∞–ї –Є–Љ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є.
–Ґ–∞–Ї, –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§, –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—Б—Л–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –®. –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ –µ–≥–Њ —В—П–ґ–µ—Б—В—М (–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л
–љ–∞ —Б—А–Њ–Ї –Њ—В 12 –і–Њ 20 –ї–µ—В), –љ–∞ –µ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –°–Є–ї–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–Є—В–µ—В–∞, —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л, –®. –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –Ј–∞ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ —Б –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї —Б —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Є—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї –Є—Е –°–С–£.
–Э–µ –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є—Е —Г—З–µ—В–∞ –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 60 –£–Ъ –†–§, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –Є–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—Й–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ —Г—З—В–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –љ–µ –ї—О–±—Л–µ —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –∞ –ї–Є—И—М —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—В —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П.
–Т –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–љ–љ—Л–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б–Љ—П–≥—З–∞—О—Й–Є–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—О—В —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–∞, —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –®.
–Я—А–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®., —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ5.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 65-–£–Ф–Я24-3–°–°-–Р5
–Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л
41. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 339 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ- –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ—Л–є –ї–Є—Б—В –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, —В—А–µ–±—Г—О—Й–Є—Е —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Д–Њ—А–Љ—Л –≤–Є–љ—Л –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ.
5 –Я—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—Г–і–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®. –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ: –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§, —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 275 –£–Ъ –†–§ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –і–Њ 12 –ї–µ—В.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ—В 11 –Љ–∞—П 2022 –≥. –Х. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –Ј–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ъ., –У., –†. –Є –Ы., —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –Є –Ј–∞ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї—И–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ–і–ґ–Њ–≥–∞.
–Р–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Я—П—В–Њ–≥–Њ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 28 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ, –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –∞—А–µ—Б—В–∞ –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ. –Т –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Р., –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ—Л–є –ї–Є—Б—В –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П. –°—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–∞ —Д–∞–Ї—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ –і–µ—П–љ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Х. –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї –њ—А–Є—З–Є–љ–Є—В—М —Б–Љ–µ—А—В—М. –Т–µ—А–і–Є–Ї—В –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –≤–Є–љ—Л –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—А–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ—Л.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 4 –Љ–∞—П 2023 –≥., –Њ—В–≤–µ—З–∞—П –љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Я—А–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Б—В–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В–µ–є 338, 339 –£–Я–Ъ –†–§.
–Я–Њ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—О –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞. –Э–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ—Л–є –ї–Є—Б—В –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –і–µ—П–љ–Є—П, –≤–µ—А–і–Є–Ї—В –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –≤–Є–љ—Л –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 334 –£–Я–Ъ –†–§ –≤ —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є 1, 2 –Є 4 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 299 –£–Я–Ъ –†–§ –Є —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–љ–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–µ. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —З–∞—Б—В–Є 7 —Б—В–∞—В—М–Є 335 –£–Я–Ъ –†–§. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Є —Г—З—В–µ–љ—Л –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 252 –Є —З–∞—Б—В–µ–є 3, 5 —Б—В–∞—В—М–Є 339 –£–Я–Ъ –†–§, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П, –Њ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Х. –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є –Њ –µ–≥–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –љ–Є—Е –Є–і–µ—В —А–µ—З—М –Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Х. –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–ґ–Њ–≥–∞ –≤–µ—Й–µ–є –≤ –њ–∞–ї–∞—В–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В –†. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Е—А–∞–њ–µ–ї –Є –Љ–µ—И–∞–ї –Х. —Б–њ–∞—В—М. –Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –Њ–љ –њ–Њ–і–ґ–µ–≥ –≤–µ—Й–Є, –Ј–љ–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –†., –Ъ., –У. –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–Ї–Є—Б—М—О —Г–≥–ї–µ—А–Њ–і–∞ –Є —Н—В–Є–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—А—В–∞ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ—В—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є –≥–Њ—А–µ–љ–Є—П вАУ
–≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е. –°–Љ–µ—А—В—М –Ы. –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ—Б—В—А–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ.
–Э–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б—В–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –≤–Є–љ—Л. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ, —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–µ–є –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є, —Б—Г–і –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ю–љ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–ґ–µ–≥ –≤–µ—Й–Є, –Ј–љ–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –ї—О–і–Є. –Я–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–ї, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Е —Б–Љ–µ—А—В–Є –ї–Є–±–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 53-–£–Ф23-8–°–Я-–Р5
42. –Х—Б–ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ –њ–Њ–і–∞–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –Њ—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –Є –Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ—О –Ј–∞—Й–Є—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ, –љ–µ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –і–µ–ї–µ, —В–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Г —В—А—Г–і–∞ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–∞—З–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –С–µ—А–µ–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Я–µ—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Њ—В 4 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2021 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –ѓ. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–≥¬ї —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ (–і–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П), –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 228 –£–Ъ –†–§.
–° –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ—Л –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 24 817 —А—Г–±.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –ѓ., –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Б –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Њ–њ–ї–∞—В–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –І., –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В 26 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. –Њ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В —Г—Б–ї—Г–≥ —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞, –Ј–∞—П–≤–Є–≤, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –Ј–∞—Й–Є—В—Г —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–Я—А–Њ–≤–µ—А–Є–≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2023 –≥. –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞, —З—В–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 5 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 131 –£–Я–Ъ –†–§ –Ї –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–∞–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б—Г–Љ–Љ—Л, –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г –Ј–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Є–Љ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ
—Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 132 –£–Я–Ъ –†–§ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2020 –≥. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ѓ. –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –І. –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2020 –≥. –њ–Њ 13 –∞–њ—А–µ–ї—П 2021 –≥. –Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –І. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± –Њ–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 15 939 —А—Г–±. –Ј–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –ѓ. –Ј–∞ 9 —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–љ–µ–є —Г—З–∞—Б—В–Є—П –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤ 15 —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ—В 5 –Є—О–ї—П 2021 –≥. –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –І. —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ –Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ 9 —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –і–љ–µ–є —Г—З–∞—Б—В–Є—П –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ 15 % —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—Н—Д—Д–Є—Ж–Є–µ–љ—В–∞ –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 15 939 —А—Г–±. –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б—Г–Љ–Љ–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—З–µ–љ–∞ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–∞–Љ–Є –Є –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ 9 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. –ѓ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В —Г—Б–ї—Г–≥ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –І., —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —Б–≤–Њ—О –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Њ–љ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ—В 26 –Љ–∞—А—В–∞ 2021 –≥. –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –І. –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞6.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 132 –£–Я–Ъ –†–§, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Є–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–є –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –Њ—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј –љ–µ –±—Л–ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О, —В–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ –Њ–њ–ї–∞—В—Г —В—А—Г–і–∞ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б—Г–і, –≤–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—П —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ–њ–ї–∞—В–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –І., –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ј–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 25 –Љ–∞—А—В–∞, 9 –Є 13 –∞–њ—А–µ–ї—П 2021 –≥., —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –ѓ. —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –Њ—В —Г—Б–ї—Г–≥ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –љ–µ –і–∞–ї –Є–Љ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є –љ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ.
–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –ѓ. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Њ–њ–ї–∞—В–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –І., –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є.
6 –°–Љ. –њ—Г–љ–Ї—В 7 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В
19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2013 –≥. вДЦ 42 ¬Ђ–Ю –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–∞—Е –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ¬ї (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥.).
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А, –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —З–∞—Б—В–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ѓ. –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї, —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –≤ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 396вАУ399 –£–Я–Ъ –†–§, –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 44-–£–Ф23-14-–Ъ7
43. –Я—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Б—Г–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–ї–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –ї–Є–±–Њ –ї—О–±–Њ–µ –Є–љ–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Є –Њ—В 12 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ы., —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ–∞—П, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ ¬Ђ–∞¬ї, ¬Ђ–≥¬ї —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§ –Ї 4 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 18 000 —А—Г–±., –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ –Ї 6 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 38 000 —А—Г–±. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –њ—Г—В–µ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Ы. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –љ–∞ 7 –ї–µ—В –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 000 —А—Г–±.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–± –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≤ —З–∞—Б—В–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ы. –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§, –Є –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –Є –Њ —Б–Љ—П–≥—З–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –°—Л–Ї—В—Л–≤–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Є –Њ—В 10 –Є—О–ї—П 2020 –≥. –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–є, –µ–є –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ —И—В—А–∞—Д–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–µ—В —А–∞–љ–µ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –Ы., –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–є –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –і–Њ–≤–Њ–і.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 5 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥., —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ —Б—В–∞—В–µ–є 38922, 38923 –Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 38924 –£–Я–Ъ –†–§ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 20
–њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 30 –Є—О–љ—П 2015 –≥. вДЦ 29 ¬Ђ–Ю –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ¬ї, –њ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Б—Г–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–ї–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –ї–Є–±–Њ –ї—О–±–Њ–µ –Є–љ–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ы. –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ 10 –Є—О–ї—П 2020 –≥. –°—Л–Ї—В—Л–≤–Ї–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—В—М–Є 64 –£–Ъ –†–§ –Ї 8 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 40 000 —А—Г–±., –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ –Ї 7 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 20 000 —А—Г–±., –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –Ї 9 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 50 000 —А—Г–±.
–Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –°—Г–і–Њ–Љ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Є 9 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2020 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є 11 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥. —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞, —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –°—Г–і –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–і—Б—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1 —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 31 –£–Я–Ъ –†–§.
–Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –°—Г–і–Њ–Љ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ъ–Њ–Љ–Є 12 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –Ы. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ –Ї 6 –≥–Њ–і–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 38 000 —А—Г–±.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –Ы. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ —И—В—А–∞—Д–∞, —З–µ–Љ –њ–Њ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г, –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ы. –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ы., —Б–Љ—П–≥—З–Є–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –µ–є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В–Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ –і–Њ 20 000 —А—Г–±. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 69 –£–Ъ –†–§ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–∞¬ї, ¬Ђ–≥¬ї —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§ –Є —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 30, —З–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 2281 –£–Ъ –†–§, –њ—Г—В–µ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–∞ –Ы. 7 –ї–µ—В –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ —Б–Њ —И—В—А–∞—Д–Њ–Љ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ 30 000 —А—Г–±.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 3-–£–Ф–Я23-9-–Р2
44. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –ї–Є—Ж–∞, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –і–µ—П–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Г–і –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ
–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 18 –љ–Њ—П–±—А—П 2022 –≥. (—Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є) —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ь., —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ –і–µ—П–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–∞¬ї, ¬Ђ–≤¬ї —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 105 –£–Ъ –†–§, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –£–Я–Ъ –†–§ –≤–≤–Є–і—Г –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Ъ., –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Б —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ь., –∞ –љ–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –≤ –µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ —Б—Г–і –±—Л–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ —Г—З–µ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Ь., –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –µ–≥–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П вАУ –µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Є –≤–ї–µ—З–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –£–Я–Ъ –†–§. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ—Л —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≤—Б–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ь. –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П, –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ вАУ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є —В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –і–µ—П–љ–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ь. –°–Љ–µ—А—В—М –Ь., —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞, –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–∞–≤–∞ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П, –∞ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є—П—Е вАУ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –љ–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥., –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –Є—Е –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г —Б –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–Є—В—М –Њ–± –Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї –і–µ—П–љ–Є—О, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 434 –£–Я–Ъ –†–§ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –Њ–±—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 73 –£–Я–Ъ –†–§, –Є –≤ —З–Є—Б–ї–Њ —Н—В–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї –і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ –≤ –љ–Њ—А–Љ–∞—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –∞ —Б–∞–Љ–Є –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–µ—А–∞–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ- –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ–Є
–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –£–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–ї—Г—З–∞—П—Е.
–Я—А–Є–Ј–љ–∞–≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –і–µ—П–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –љ–µ–≤–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Г–і –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 21 –Є 81 –£–Ъ –†–§ –Њ–± –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Њ—В —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –∞ –њ—А–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М—О –Ь., вАУ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 4 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –£–Я–Ъ –†–§, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 134 –£–Я–Ъ –†–§, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П –љ–µ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤–∞–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї–Є –ї–Є –Ї –ї–Є—Ж—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є–ї–Є –љ–µ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–Њ–≤–Њ–і—Л –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ь. –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24 –£–Я–Ъ –†–§, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –Є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л —Б—Г–і–∞–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 9-–£–Ф23-16-–Р4
45. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Њ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ —З—В–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ–љ –њ–Њ–і–∞–ї –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –≤ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –µ–≥–Њ –љ–µ—П–≤–Ї–Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –°—Л–Ј—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В
7 –Є—О–ї—П 2022 –≥. (—Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2022 –≥.) –£. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ ¬Ђ–∞¬ї, ¬Ђ–Ј¬ї —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 111 –£–Ъ –†–§.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –®–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 31 –Љ–∞—П 2023 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Ь. –њ—А–Њ—Б–Є–ї –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ
–£. –љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞, –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ 7 –Є—О–ї—П 2022 –≥. —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ—В –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –£. –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Њ–±—А–∞–љ–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–µ—В –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ 18 –Є—О–ї—П 2022 –≥. –£. –њ–Њ–і–∞–ї –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–∞–ї–Њ–±—Г, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –£.–У. (–і–Њ—З—М –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ) —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–∞, —З—В–Њ –£. –ґ–µ–ї–∞–µ—В —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є, –љ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г. –Т —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї–∞, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –£. –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ, —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Р–≤—В–Њ—А –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–∞—З–Є –£. –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Б—Г–і –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 2 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 38912 –£–Я–Ъ –†–§ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –љ–µ–Љ –Є–ї–Є —Б—Г–і –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ –≤–њ—А–∞–≤–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–∞–≤ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —П–≤–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤ –і–µ–љ—М –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –£. –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–µ—В.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ 18 –Є—О–ї—П 2022 –≥. –£. –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–∞–љ–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є 15 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥. –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞ 5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2022 –≥., –Є –µ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –і–∞—В–µ, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Т —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –њ—А–Є–љ—П—В–∞—П –£.–У. (–і–Њ—З–µ—А—М—О –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–∞ –≤ —Б—Г–і, —З—В–Њ –£. —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –±—Г–і–µ—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Г.
–Ш–Ј –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В 5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2022 –≥. —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –£.–У. —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї–∞, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –£. –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—Г–і—Г –Њ—В –і–Њ—З–µ—А–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –µ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–µ.
–°—Б—Л–ї–Ї–∞ —Б—Г–і–∞ –љ–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї—Г –Њ—В 7 –Є—О–ї—П 2022 –≥., –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Г—О –£. –і–Њ –њ–Њ–і–∞—З–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –і–ї—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ–ї–µ–Є–Ј—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Њ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ.
–§–∞–Ї—В –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –£. –љ–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –Њ –µ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є 5 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2022 –≥.
–°—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –£. –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –і–µ–ї–µ –љ–µ –Њ–±—Б—Г–і–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ–± —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—З–Є–љ –µ–≥–Њ –љ–µ—П–≤–Ї–Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ, –љ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –њ–Њ –µ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–µ.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—В–∞–≤—П—В –њ–Њ–і —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –£. –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 46-–£–Ф23-34-–Ъ6
46. –Я—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Г—З–µ—В—Г –Є –≤—А–µ–Љ—П, –Ј–∞—В—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В—М—О —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –®–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 22 –Љ–∞—П 2023 –≥. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –У. –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –У. –њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –С. –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–∞ –µ–Љ—Г –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ–љ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—Г—В–µ–Љ –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –∞–і—А–µ—Б –®–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є–Љ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–± –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ. –Р–і–≤–Њ–Ї–∞—В —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г—З—В–µ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –њ–Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞–Љ, –њ—А–Њ—Б–Є–ї –≤—Л–њ–ї–∞—В–Є—В—М –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П.
–Я—А–Њ–≤–µ—А–Є–≤ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –У., –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥. —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С. 18 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥. –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –®–µ—Б—В—Л–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б—В–∞—В—М–Є 51 –£–Я–Ъ –†–§ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –У., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М –њ–Њ–і–∞–ї –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–µ –њ—А–Њ—Б—М–±—Г –Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–њ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Г—О –њ–Њ—З—В—Г.
27 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥. –У. –њ–Њ–і–∞–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤—Л–њ–ї–∞—В–µ –µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П. –®–µ—Б—В–Њ–є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ 22 –Љ–∞—П 2023 –≥. –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –µ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞.
–Т –і–µ–ї–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—В 27 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥. –Є –Њ—В—З–µ—В –Њ –µ–≥–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –љ–∞ –∞–і—А–µ—Б —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—З—В—Л –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤
¬Ђ–°.¬ї —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Њ–є ¬Ђ–і–ї—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –У.¬ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ–њ–Є—П –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ъ–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –У. –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Ї–Њ–њ–Є—О –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ—В 18 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥., –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Ї –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–Љ —В–∞–Ї–∞—П –Ї–Њ–њ–Є—П –њ—А–Є–Њ–±—Й–µ–љ–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б—Г–і –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞, –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –Є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 49вАУ51 –£–Я–Ъ –†–§ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—О—В—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–µ–є 53 –£–Я–Ъ –†–§, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–∞–≤–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 259вАУ260 –£–Я–Ъ –†–§ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–∞—Б—В—М—О —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 4 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 19 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2013 –≥. вДЦ 42
¬Ђ–Ю –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–Ї–∞—Е –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ¬ї, –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–∞, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Г—З–µ—В—Г –≤—А–µ–Љ—П, –Ј–∞—В—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –љ–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П–Љ–Є 1, 2 —Б—В–∞—В—М–Є 53 –£–Я–Ъ –†–§, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –≤—А–µ–Љ—П, –Ј–∞—В—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –њ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Є—Е –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ—П
–Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –Є—Б—З–Є—Б–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –і–љ—П—Е, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –±—Л–ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–љ—П—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—П, –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–љ—П.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –С. –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ –њ–Њ—А—Г—З–∞–µ—В –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–і–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П. –Ю–љ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—П—Б–љ–Є–ї–∞, —З—В–Њ –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П —Б –љ–µ–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –≤ —Б—Г–і–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С., –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –У. –Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –Њ—В 18 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥. –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б —Н—В–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є, –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –У. –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –®–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 22 –Љ–∞—П 2023 –≥., –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –У. –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—Г–і –≤ –Є–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 31-–£–Ф23-18-–Ъ6
47. –Х—Б–ї–Є –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б—Г–і–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ —Г—Е—Г–і—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —Д–∞–Ї—В —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –®–∞–і—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ъ—Г—А–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—В 9 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2022 –≥. (—Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є) –Ц. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 159, –њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–∞¬ї —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 158, –њ—Г–љ–Ї—В—Г ¬Ђ–≥¬ї —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 158 –£–Ъ –†–§.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 27 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2022 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ц. –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ—Л: –µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –і–≤—Г–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–∞–Љ –Ї—А–∞–ґ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–∞¬ї, ¬Ђ–≥¬ї —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 158 –£–Ъ –†–§, –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б–Љ—П–≥—З–µ–љ–Њ.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є –Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є
—Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤–≤–Є–і—Г –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П —Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ —Б—В–∞—В–µ–є 6, 60 –£–Ъ –†–§.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 5 –Є—О–ї—П 2023 –≥. –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤–≤–Є–і—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ.
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –≤—Л–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ 10 –∞–њ—А–µ–ї—П 2023 –≥. –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ –Ч–Р–У–° –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≥. –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г, –Ц. —Г–Љ–µ—А 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2023 –≥.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 27 –£–Я–Ъ –†–§ —Б–Љ–µ—А—В—М –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—В–∞ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–ї—П —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–≤–Њ–і—Л –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є –Ц.
–Я—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 82-–£–Ф–Я23-5-–Ъ7
48. –Ю–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤–Ј—П—В–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л—Е, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л—Е –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞ –Њ—В 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥. (—Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є, –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є) –У. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –ї–Є—З–љ–Њ –Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –≤–Ј—П—В–Њ–Ї –≤ –≤–Є–і–µ –і–µ–љ–µ–≥ –Ј–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ–Њ–є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–Њ–≤.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±–∞—Е –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П—Е –Ї –љ–Є–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї вАУ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Р., –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї –љ–µ—Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Б –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –У. —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–∞ –Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –У.
–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤–Ј—П—В–Њ–Ї –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є, –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 26 –Є—О–ї—П 2023 –≥. –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 2022 –≥. –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–Њ—Б—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 14 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞ –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–°—Г–і–Њ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –У., —П–≤–ї—П—П—Б—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –∞–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –∞–Ї—В–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –њ–Њ –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–є–Њ–љ—Г –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞ (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Р–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–Њ –Ч–Р–У–°), –≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П (–≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 16 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ 26 –Љ–∞—П 2015 –≥.) –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –≤–Ј—П—В–Ї–Є –Њ—В –Ю.–Ь., –°. –Є –Ю.–Э. –Ј–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Р.–Ы., –С., –Ъ. –Є –°. вАУ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—О —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є –≤—Л–і–∞—З—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–Є, –≤–љ–µ—Б—П –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –ї–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є, –њ—А–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –У. —Б—Г–і –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —А—П–і–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Ю.–Ь., –Ю.–Э., –°., –С., –Ъ., –Р.–Ы., –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј, –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л.
–У. –Ї–∞–Ї –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, —В–∞–Ї –Є –≤ —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–Є–љ—Л, –Ј–∞—П–≤–ї—П—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –µ–µ —Б—Д–∞–±—А–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л, –∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –µ–µ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є.
–У. –Є –µ–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї вАУ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –Р. –≤ —Б—Г–і–∞—Е –њ–µ—А–≤–Њ–є, –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –≤ –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±–∞—Е –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Є –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –У. –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Е –µ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Ю.–Ь., –Ю.–Э. –Є –°., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–Є—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ–Є —П–Ї–Њ–±—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ –і–∞—З–µ –У. –≤–Ј—П—В–Њ–Ї –Ј–∞ –≤—Л–і–∞—З—Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –У. –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–∞, —З—В–Њ —Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –і–ї—П –µ–µ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 2015 –њ–Њ 2017 –≥–Њ–і –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –µ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–є –Ї–∞–Ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Р–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Ч–Р–У–°, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –Р–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Ч–Р–У–° –Є –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є —Г –ї–Є—Ж —Ж—Л–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –≤–љ–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є (–љ–∞ –і–Њ–Љ—Г); –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є, —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е –і–µ–ї –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ю.–Ь., –Ю.–Э., –°., –С., –Ъ. –њ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ –≤ –Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В –љ–∞ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –і–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –У. —Б—Б—Л–ї–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А—Л –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є
–њ—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–Њ–≤–µ—А–Њ–Ї –њ–Њ –µ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Ъ.–С. –Є –У.–Р., —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–≤—И–Є—Е —Б—Г–і—Г –Њ —Д–∞–Ї—В–∞—Е —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–є.
–У. —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є, –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–∞ —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞ –Р.–Ы., –Ъ., –Ю.–Ь. –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Ј–∞ –Љ–Њ—И–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–њ–ї–∞—В –љ–∞ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –Т –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Є–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є –Р.–Ы., –С., –°. –Є –Ъ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ (—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –У.) –њ—А–Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е –Ч–Р–У–° —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є –≤–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Р–≥–µ–љ—В—Б—В–≤–∞ –Ч–Р–У–°. –Ґ–∞–Ї, –≤ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞ –Њ—В 14 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2020 –≥., –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –°., –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—П –њ–Њ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б –љ–µ—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, 15 –Љ–∞—П 2015 –≥. –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ, –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є (–°.–Ц. –Є –°.–Р.), –≤–≤–µ–і—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –У., –љ–µ –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Њ –µ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П—Е.
–У. –Є –µ–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–≤–∞—В—М –≤–Ј—П—В–Ї—Г –У. –Ј–∞ –≤—Л–і–∞—З—Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є —Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є –≤–љ–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –њ—Г—В–µ–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ –Ч–Р–У–° —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–∞ —А–Њ–і–Њ–≤ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Ч–Р–У–° –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –±—Л–ї–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —Д–∞–Ї—В —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞–Ї—В–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞.
–°—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–Є –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –°., –і–Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є 12 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2017 –≥. –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–є –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–∞ –Є–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –і–µ–љ–µ–≥ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–∞–Љ –Ч–Р–У–° –Ј–∞ –≤—Л–і–∞—З—Г –і–≤—Г—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є (–°.–Ц. –Є –°.–Р.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–љ–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –У. –њ–Њ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В 15 –Љ–∞—П 2015 –≥. –Ґ–∞–Ї, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞, —З—В–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 20 000 —А—Г–±. –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –µ–µ (–°.) –±–∞–±—Г—И–Ї–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—О –Ч–Р–У–° –°–≤–µ—А–і–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞ ¬Ђ–У–∞–ї–µ¬ї, –њ–Њ –њ—А–Њ—В–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –±–∞–±—Г—И–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї –У. (–Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Ч–Р–У–° –Ъ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≥. –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–∞) –Ј–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –і–≤—Г—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—В–µ–є вАУ ¬Ђ–і–≤–Њ–є–љ–Є¬ї. –Т —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –°. —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–∞, —З—В–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б—Г–Љ–Љ–µ –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –ї–Є—З–љ–Њ –У. –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ
–љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–∞ –≤—Л–і–∞—З—Г —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є.
–У. —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—П—Б–љ—П–ї–∞ —Б—Г–і—Г, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є –Р.–Ы., –С. –Є –Ъ. –±—Л–ї–Є –≤—Л–і–∞–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –Ч–Р–У–° –Ъ.–С., –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–∞. –Ъ.–С., –±—Г–і—Г—З–Є –і–Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П, –≤ —Б—Г–і–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –У., –њ–Њ—П—Б–љ–Є–≤, —З—В–Њ –∞–Ї—В–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є –Р.–Ы., –С. –Є –Ъ. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –њ–µ—З–∞—В–Є –≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ—В–µ–є.
–Т —Е–Њ–і–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –±—Л–ї–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ—Л —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–∞ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ю.–Э. (—Г–Љ–µ—А—И–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Б—Г–і) –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е —Б—В–∞–і–Є—П—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–є –У. –љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –µ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞–Љ–Є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л, –Ю.–Э. –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –љ–∞ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є–Љ–µ–ї–∞ —А—П–і —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –і–µ–Љ–µ–љ—Ж–Є—О –Є –Њ—Б—В—А–Њ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Є—И–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г вАУ –Є–љ—Б—Г–ї—М—В. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї —Б—Б—Л–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –і–µ–ї–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≤—А–∞—З–Њ–Љ
¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є–Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–Є вДЦ 6¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Ю.–Э. —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В —А—П–і–Њ–Љ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ ¬Ђ–Њ—Б—В—А—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Є—И–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г¬ї, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–µ–±—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–Љ —Г—Е–Њ–і–µ –Є, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П —В—П–ґ–µ—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –µ–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М —Б –љ–µ–є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –Є –љ–∞ –Њ—В–≤–µ—В —Б—Г–і—М–µ, –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Є.–Њ. –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞ –њ–Њ –∞–Љ–±—Г–ї–∞—В–Њ—А–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є–Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Є –≤—А–∞—З–Њ–Љ-–њ—Б–Є—Е–Є–∞—В—А–Њ–Љ –Ъ–У–С–£–Ч
¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–љ–µ–≤—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–Є—Б–њ–∞–љ—Б–µ—А вДЦ 1¬ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ю.–Э. –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –љ–∞ –і–Њ–Љ—Г –Є –µ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј ¬Ђ–і–µ–Љ–µ–љ—Ж–Є—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є¬ї.
–Ч–∞—Й–Є—В–∞ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–≤ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Р.–Ы., –С. –Є –Ъ., –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–Ї–Њ–±—Л –Ю.–Э. –Є –Ю.–Ь. (–Љ–∞—В—М –Є –і–Њ—З—М) –і–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Ј—П—В–Ї–Є –У., –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –і–µ–љ–µ–≥ –љ–µ –±—Л–ї–Є, –∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –Њ—В —Б–∞–Љ–Є—Е –Ю.–Э. –Є –Ю.–Ь.; –і—А—Г–≥–Є–µ –і–Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б—Г–і–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –і–µ–љ–µ–≥ –У. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј–Њ–±–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е –У. –≤ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –≤–Ј—П—В–Њ–Ї –Є–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П.
–≠—В–Є –і–Њ–≤–Њ–і—Л —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –У., —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Є –љ–µ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л –≤ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е.
–°—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є
–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є 87, 88 –£–Я–Ъ –†–§, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–≤–Њ–і—Л —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј—К—П—В—Л–µ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 2019 –≥. –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ–±—Л—Б–Ї–∞ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –У. –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Б—Г–Љ–Љ–µ 8020 —А—Г–±., –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ –і–µ–ї—Г, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Є–љ–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –µ–є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ —З–µ—В—Л—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–ї –Є–Ј –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Њ–± –Є—Е –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–∞—Ж–Є–Є, –∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і—М–±—Л –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Ї–∞–Ї –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –≥–ї–∞–≤—Л 47 –£–Я–Ъ –†–§.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±—Й–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –±–µ–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–± –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –Р., –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –У., –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є.
–Я—А–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В 21 –∞–њ—А–µ–ї—П 2022 –≥. –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–Њ—Б—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 14 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 53-–£–Ф23-9-–Ъ8
49. –Э–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–њ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г, –љ–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –і–µ—В–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ –∞—А–µ—Б—В, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є—О –Њ –і–∞—В–µ, –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ—Г –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –•–∞–љ—В—Л-–Ь–∞–љ—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –•–∞–љ—В—Л- –Ь–∞–љ—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ вАУ –Ѓ–≥—А—Л –Њ—В 18 –Є—О–ї—П 2022 –≥. –Т., —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ —Б—Г–і–Є–Љ—Л–є, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 160 –£–Ъ –†–§ –Ї 7 –≥–Њ–і–∞–Љ 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Є –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞.
–° –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т. –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Р–Ю ¬Ђ–Ѓ.¬ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Њ 183 975 154 —А—Г–±. 74 –Ї–Њ–њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –•–∞–љ—В—Л-–Ь–∞–љ—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –•–∞–љ—В—Л- –Ь–∞–љ—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ вАУ –Ѓ–≥—А—Л. –Р—А–µ—Б—В, –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ—Л–є –і–Њ–Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –і–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤ —З–∞—Б—В–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є.
–Р–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ —Б—Г–і–∞ –•–∞–љ—В—Л-–Ь–∞–љ—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ вАУ –Ѓ–≥—А—Л –Њ—В 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ, –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—Г–і –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 28 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥. –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—Г–і –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞.
–Т –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –°. –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞—Е –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Т.–†. –њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —В–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, —З—В–Њ —Б—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Т.–†. —Б –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Р–Ю ¬Ђ–Ѓ.¬ї –≤ —Б—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–ї –Њ –і–∞—В–µ, –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –≤ —Б—Г–і–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —З–µ–Љ –љ–∞—А—Г—И–Є–ї –њ—А–∞–≤–Њ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є 8 –Є—О–љ—П 2023 –≥., –Њ–±—Б—Г–і–Є–≤ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4012 –£–Я–Ъ –†–§ –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–µ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–Њ–є 471 –£–Я–Ъ –†–§, –≤ —Б—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ, –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є–Љ, —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –≤ —В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ–Њ–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В –Є—Е –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 40112 –£–Я–Ъ –†–§ —Б—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –ї–Є—Ж–∞–Љ, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В—Б—П –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –Є–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ–њ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Ї–Њ–њ–Є–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞ –•–∞–љ—В—Л-–Ь–∞–љ—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ вАУ –Ѓ–≥—А—Л –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –Р–Ю ¬Ђ–Ѓ.¬ї –®. –Є –Ъ., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2022 –≥. –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Т., –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤
—Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2023 –≥. –Ї–Њ–њ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –і–∞—В–µ, –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞
–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Г, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –Р–Ю ¬Ђ–Ѓ.¬ї, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—О –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Р–Ю –°–Ю ¬Ђ–ѓ.¬ї –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Т.
28 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥. –і–µ–ї–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Т. –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–µ–є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е –Р–Ю ¬Ђ–Ѓ.¬ї –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Р–Ю –°–Ю ¬Ђ–ѓ.¬ї. –Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Т. –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –Є –і–µ–ї–Њ
–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –њ—А–∞–≤.
–Ъ–∞–Ї —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Т.–†. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є –µ–µ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –Њ–± –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–± –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ—Л–є –і–Њ–Љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –∞—А–µ—Б—В–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ —Б—Г–і–∞—Е –њ–µ—А–≤–Њ–є, –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є, –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, —Н—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –µ–Љ—Г –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Й–∞–µ—В –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Њ –і–∞—В–µ, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –Т.–†. –±—Л–ї–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–∞ —Б –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –ґ–∞–ї–Њ–±–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Ї–Њ–њ–Є—О –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–± –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Т.–†. –±—Л–ї–Є –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—Л –Њ—В–Љ–µ–љ–Њ–є –њ–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –ґ–∞–ї–Њ–±–∞–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ—Л–є –і–Њ–Љ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –і–µ—В—П–Љ –Т.–†.
–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞ –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Т.–†. –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Й–µ–љ–∞ –Њ –і–∞—В–µ, –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –Є–Љ–µ–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞—П–≤–Є—В—М —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Т.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –ї–Є—Ж—Г –Т.–†. –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –µ–є —Б—В–∞—В—М–µ–є 40112 –£–Я–Ъ –†–§ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞—В—М –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ —Б–≤–Њ—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –°–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В 28 –Љ–∞—А—В–∞ 2023 –≥., —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—Г–і –≤ –Є–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 69-–£–Ф23-6-–Ъ7
–°–£–Ф–Х–С–Э–Р–ѓ –Ъ–Ю–Ы–Ы–Х–У–Ш–ѓ
–Я–Ю –Р–Ф–Ь–Ш–Э–Ш–°–Ґ–†–Р–Ґ–Ш–Т–Э–Ђ–Ь –Ф–Х–Ы–Р–Ь
–Ф–µ–ї–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є
50. –Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П) –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г –∞–Ї—В—Г, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О, –љ–Њ –Є –Є–љ–Њ–Љ—Г –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г –∞–Ї—В—Г, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г –Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П.
21 –Є—О–љ—П 2023 –≥. –Р. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В —В—А—Г–і–∞ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В) —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –ї–∞–≥–µ—А—М –і–ї—П –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є –Х., 2010 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–є—Б—П –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –і–µ—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—А—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В 4 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4.12 –Я–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞ –і–µ—В–µ–є –Є –Є—Е –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ –Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї), –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—П –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є —Б 8 –њ–Њ 28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2022 –≥.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –Р. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—Г—В–µ–≤–Ї—Г –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Є—Б–Ї –Р. —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ. –°—Г–і –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥–Є.
–£–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Р. —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Є–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Х. –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є –≤ 2022 –≥–Њ–і—Г –љ–µ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–є –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є –≤ 2023 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 6 —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є) –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є –ї–Є–±–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є —З–∞—Б—В–Є –µ–µ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—А—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б—Г–і–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї —Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є 27 –Є—О–љ—П 2023 –≥. —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б—В–∞—В—М—П
6 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И–µ–є —Б–Є–ї—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –љ–µ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Р. –≤ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.
–°—Г–і –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ —Б—Г–і—Л –љ–µ —Г—З–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Г—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –∞ –ї–Є—И—М —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Я—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—В–µ–є, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—В—Б—П –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–І–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 6 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—Г—В–µ–≤–Ї–∞ –ї–Є–±–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—П —З–∞—Б—В–Є –µ–µ —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ—А—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞.
–Т —Б—В–∞—В—М–µ 8 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –і–µ—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–µ—А—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –і–µ—В–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –љ–∞ –і–Є—Б–њ–∞–љ—Б–µ—А–љ–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ (–њ—Г–љ–Ї—В 10).
–Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–і—Л—Е–∞ –і–µ—В–µ–є –Є –Є—Е –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Я–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї, –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 4.12 –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є
–њ—Г—В–µ–≤–Ї–Є, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е 3вАУ11 —Б—В–∞—В—М–Є 8 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–µ—В—П–Љ, –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–≤–Њ—В–µ –≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –±—О–і–ґ–µ—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е (–њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В 4).
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ, —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ–± –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤ –і–µ—В–µ–є –љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е –Є –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ.
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –≥–ї–∞–≤–µ 22 –Ъ–Р–° –†–§, –і–ї—П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г –∞–Ї—В—Г, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—О, –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ—Г –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г –∞–Ї—В—Г, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ (—З–∞—Б—В–Є 2 –Є 5 —Б—В–∞—В—М–Є 15 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞).
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ф–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞, –Ї–∞–Ї –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И—Г—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Я–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—В–µ–≤–Њ–Ї.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —Б–Є–ї–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 117-–Ъ–Р–Ф24-10-–Ъ4
51. –Э–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –≤ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —Г—Й–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—П —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞—Г–Ї, –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –љ–∞—Г–Ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В) –Њ—В 27 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥. –†. –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–∞ —Г—З–µ–љ–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є.
–Я—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј) –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞—Г–Ї –Є –†. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –≤—Л–і–∞—З–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞—Г–Ї –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Њ —Б—А–Њ–Ї–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞—Г–Ї.
–†. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–Є —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Њ—В–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 21 —Б—В–∞—В—М–Є 4 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 23 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1996 –≥. вДЦ 127-–§–Ч ¬Ђ–Ю –љ–∞—Г–Ї–µ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ- —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ¬ї –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —Г—З–µ–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ–µ–є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ–µ–є, –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ–µ–є, –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Т—Л—Б—И–µ–є –∞—В—В–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –њ—А–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є –Є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ—Г —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ —Б—Д–µ—А–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞—Г–Ї, –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–є –љ–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –љ–∞—Г–Ї –Є –∞—В—В–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 24 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2013 –≥. вДЦ 842 —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Г—З–µ–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ–µ–љ–µ–є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ), –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ III –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 24 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –≤–µ–і—Г—Й–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 15 –і–љ–µ–є –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є. –Ъ–Њ–њ–Є—О –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –≤—А—Г—З–∞–µ—В —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—О —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —З–µ–Љ –Ј–∞ 10 –і–љ–µ–є –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є.
–Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ, –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Њ –њ—А–Є—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –≤—Л–і–∞—З–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ –љ–∞—Г–Ї (–њ—Г–љ–Ї—В 39 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П).
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –†. —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є 13 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥., —В–Њ –µ—Б—В—М —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї–∞, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 24 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Я—А–Є–Ї–∞–Ј.
–Я—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –љ–Њ—А–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ 15вАУ38 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—О —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В –Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –µ–µ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–Љ.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 20 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–µ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –Ї –Ј–∞—Й–Є—В–µ. –Э–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ.
–Ш–Ј —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞–±–Ј–∞—Ж–∞ –њ—П—В–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 24 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 15 –і–љ–µ–є –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –љ–Њ—Б–Є—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Є–Љ–µ–µ—В —Ж–µ–ї—М—О –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—П —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ —Б –µ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–ї—П –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ —Б—А–Њ–Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О, —З—В–Њ–±—Л —Г –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—А—Г—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–њ–Є–Є –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ —Б–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—О —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —З–µ–Љ –Ј–∞ 10 –і–љ–µ–є –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є.
–†. –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В 13 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥., –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—М –±—Л–ї –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ —Б –љ–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ.
–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –љ–µ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М; –Є–љ—Л–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –≤ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–Њ–≤–Њ–і –†. –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –≤ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –Ј–∞ 14 –і–љ–µ–є –і–Њ –і–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ.
–Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б—Г–і–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Г—З—В–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –љ–∞—Г–Ї–Є. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Њ—В–Ј—Л–≤–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 24 –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –і–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–µ—В
–≤–µ–і—Г—Й—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В –і–∞—В—Г –Ј–∞—Й–Є—В—Л –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б—А–Њ–Ї –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 6 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ –Њ—В–Ј—Л–≤ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –†.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –†., –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –≤—Л–≤–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Є—Б–Ї.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 78-–Ъ–Р–Ф25-2-–Ъ3
52. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –ї–Є—Ж—Г –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ, –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –≤—Л–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–Љ—Г –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ.
–®. 24 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2014 –≥. –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 12.16 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Ј–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ —Б –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –µ–Љ—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ 27 –Є—О–ї—П 2014 –≥.
24 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –®. —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –У–Ш–С–Ф–Ф –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–≥—Г (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –£–Ь–Т–Ф –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г) –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –≤—Л–і–∞–љ–Њ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б 24 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. –њ–Њ 24 —П–љ–≤–∞—А—П 2033 –≥.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –і–ї—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2013 –≥. –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –®. –≤ –±–∞–Ј–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –У–Њ—Б–∞–≤—В–Њ–Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П.
–®. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –£–Ь–Т–Ф –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –њ–Њ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М
–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Є —Г–і–∞–ї–Є—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –Є–Ј –±–∞–Ј –і–∞–љ–љ—Л—Е.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –®. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і—Л –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –®. –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –µ–Љ—Г –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –≤ 2014 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –Є–Ј—К—П—В–Њ–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ –≤—Л–і–∞–љ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞, —Б—А–Њ–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–µ–Ї.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ.
–Т –њ—Г–љ–Ї—В–µ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 28 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 10 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1995 –≥.
вДЦ 196-–§–Ч ¬Ђ–Ю –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П) –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –ї–Є—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є (–Ј–і–µ—Б—М –Є –і–∞–ї–µ–µ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –∞–Ї—В—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –≤ 2014 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–± –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П).
–Т —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—В—А–∞—В—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 3).
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —З–∞—Б—В–Є 41 —Б—В–∞—В—М–Є 32.6 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤–Њ–є 12 —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ, –Є–Ј—К—П—В–Њ–µ —Г –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Є–і—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –ї–Є—Ж–∞, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–Љ –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—И–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2013 –≥. –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 23 –Є—О–ї—П 2013 –≥. вДЦ 196-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е –Є —Б—В–∞—В—М—О 28 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї (—Б—В–∞—В—М—П 4, –і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ъ–Њ–Р–Я –†–§), –≤ –Є—О–љ–µ 2014 –≥. –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Њ –љ–Њ—А–Љ—Л, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–µ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—А–Њ–Ї –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є—Б—В–µ–Ї, –љ–µ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є.
–Ґ–∞–Ї–Њ–є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –∞–Ї—В –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 28 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–љ—П—В –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2014 –≥.: –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ вДЦ 1191 —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—В—А–∞—В—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –®. –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 28 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М 41 —Б—В–∞—В—М–Є 32.6 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–∞—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П (–њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П) –Є –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—О—Й–∞—П –љ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –®.
–Т –Ь–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є—П—Е –њ–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–Њ—А–Љ –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, —П–≤–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –њ–Є—Б—М–Љ—Г –Ь–Т–Ф –†–Њ—Б—Б–Є–Є ¬Ђ–Ю –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞—Е —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Р–Ш–Я–°
¬Ђ–Р–і–Љ–њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞¬ї –Њ—В 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2013 –≥. вДЦ 13/12-217, —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є 41 —Б—В–∞—В—М–Є 32.6 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–µ–ґ–і–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –і–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 28 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П (—А–∞–Ј–і–µ–ї ¬Ђ–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–є –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –ї–Є—И–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞¬ї).
–Я–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 32.6 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –ї–Є—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞, –Є–Ј—К—П—В–Њ–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—М—Б—П —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–Љ.
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –£–Ь–Т–Ф –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В—Ж—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –і–ї—П –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–є—В–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –®. –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ.
–Т–≤–Є–і—Г –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –≤ —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –∞–љ–љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ
–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 21-–Ъ–Р–Ф25-1-–Ъ5
53. –Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М –≤ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Є –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л —Б—Г–і–Њ–Љ.
–Я—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П) 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2023 –≥. –ѓ. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ ¬Ђ–С-3¬ї вАУ –≥–Њ–і–µ–љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –ѓ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Є—Б–Ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ, –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –Є—Е –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, —Б—Г–і –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г –ѓ. –љ–∞ –і–µ–љ—М –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –µ–≥–Њ –≥–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О ¬Ђ–Т.¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–Т.¬ї) —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Њ—В 11 —П–љ–≤–∞—А—П 2024 –≥., —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –ѓ. –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–±¬ї —Б—В–∞—В—М–Є 47, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–≥¬ї —Б—В–∞—В—М–Є 65, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–≤¬ї —Б—В–∞—В—М–Є 68 ¬Ђ–†–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є¬ї (–њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ вДЦ 1 –Ї –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–µ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 4 –Є—О–ї—П 2013 –≥.
вДЦ 565 (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –†–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є) –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Т¬ї вАУ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–і–µ–љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–Я—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—П –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї—Б—П –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л, –љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–≤ —Н—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –њ—А–∞–≤–∞ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–≤, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В –љ–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ
—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л (—З–∞—Б—В—М 6 —Б—В–∞—В—М–Є 49 –Ъ–Р–° –†–§).
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 7 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥. –њ–Њ 11 —П–љ–≤–∞—А—П 2024 –≥., —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є (–∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Ї—А–Њ–≤–Є, —Д–ї—О–Њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞, –Ь–†–Ґ, –≠–Ъ–У, —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П).
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ—Б—П –≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–°—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –і–∞–ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Г —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–≤ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –ѓ. –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ (–Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П ¬Ђ–Т¬ї) –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–±¬ї —Б—В–∞—В—М–Є 47, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ ¬Ђ–≥¬ї —Б—В–∞—В—М–Є 65 –†–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Г—О –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О –≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В; –≤ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ–∞—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О –≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ ¬Ђ–С-3¬ї, вАУ –≥–Њ–і–µ–љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 59 –Є —З–∞—Б—В–Є 8 —Б—В–∞—В—М–Є 82 –Ъ–Р–° –†–§ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ–Њ –і–µ–ї—Г, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–ї—П —Б—Г–і–∞ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞—В—М–µ–є 84 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞.
–°—Г–і—Л –љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і–∞ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞
¬Ђ–≤¬ї —Б—В–∞—В—М–Є 68 –†–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Њ–њ–Є—П —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П –≥–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Т¬ї вАУ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–і–µ–љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Њ–њ–Є–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞–Љ, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–Њ—П
—Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б—В–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Њ–є –љ–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Г—О —Б—В–Њ–њ—Г.
–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В 1 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞. –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –ї–Є—И—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—В 1 –љ–Њ—П–±—А—П 2021 –≥., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ѓ. –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є–ї –њ—А–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≤ —Б—Г–і –≤ –≤–Є–і–µ –љ–µ –Ј–∞–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Ї–Њ–њ–Є–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ, –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є.
–Ш–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ 11 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥. –ѓ. —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Б—В–Њ–њ –≤ –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є–Є —Б —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Њ–є –≤ –У–С–£–Ч, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–∞–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ: R-–і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Њ–њ–Є—П —Б—В–Њ–њ —Б–њ—А–∞–≤–∞ II, —Б–ї–µ–≤–∞ III —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є.
–Т –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–µ —А–µ–љ—В–≥–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—А–∞—З–Њ–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–Њ–Љ, –∞ –љ–∞—А—П–і—Г —Б —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –і–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј–∞ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤—А–∞—З–∞-–Ї–ї–Є–љ–Є—Ж–Є—Б—В–∞.
–°—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Љ–µ—А –Ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –њ–Њ—А—Г—З–∞—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–Т.¬ї, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Г –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л, —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –ї–Є—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –і–µ–ї–∞.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤—Г –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є –љ–µ–њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л —Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 49-–Ъ–Р–Ф25-6-–Ъ6
54. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Є (–Є–ї–Є) –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ –Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Є –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ—В.
–Ъ. –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ –Њ–±—Й–µ–є –і–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (¬Љ –і–Њ–ї–Є) –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї.
–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –≤–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –Х–У–†–Э –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 2003 –≥., –Є–Љ–µ—О—В —Б—В–∞—В—Г—Б ¬Ђ–∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ, —А–∞–љ–µ–µ —Г—З—В–µ–љ–љ—Л–µ¬ї.
–Ъ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–∞ –Є –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –њ–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞), –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–є –њ–ї–∞–љ –Њ—В 10 –Љ–∞—П 2023 –≥., –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—О –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж –µ–≥–Њ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–∞—Б—М —Б 935 –і–Њ 1156 –Ї–≤. –Љ.
–£–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Њ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ, —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Х–У–†–Э.
–Ъ. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞,
–Њ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Г—З–µ—В—Г –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 1156 –Ї–≤. –Љ.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—А–µ–µ—Б—В—А–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, –љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—З–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Т —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, –њ–Њ –і–µ–ї—Г –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ.
–†–∞–Ј—А–µ—И–∞—П —Б–њ–Њ—А –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б—Г–і –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є—Б—П –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ–ї–∞–љ –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е, –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–∞ 221 –Ї–≤. –Љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞, –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ, —Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ –≤–≤–Є–і—Г –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ–Љ—Л–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —Б—Г–і—Л –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–є –Њ—А–≥–∞–љ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ, –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–∞ 221 –Ї–≤. –Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є, –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞. –Ъ–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –≤ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –≥—А–∞–љ–Є—Ж, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є 15 –ї–µ—В, –±–µ–Ј —Г—З–µ—В–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М—О 935 –Ї–≤. –Љ.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 11 —Б—В–∞—В—М–Є 43 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 2015 –≥. вДЦ 218-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї –њ—А–Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, –Є–ї–Є –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є—Е—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–≤—И–Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –њ—А–Є –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –µ–≥–Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В—Б—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є 15 –ї–µ—В –Є –±–Њ–ї–µ–µ. –Я—А–Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П
–Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е 32 –Є 321 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 26 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Т –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞. –Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞, –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞, –µ—Б–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—О —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е 32, 32.1 –Є 45 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 26 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–∞–≤ –љ–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П.
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –і–µ–ї–∞, –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –Љ–µ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є.
–£–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –і–µ–Ї–ї–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П (500 –Ї–≤. –Љ), —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 34 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 18 –Є—О–љ—П 2021 –≥. –Њ–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Я—А–∞–≤–Є–ї –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є (—З–∞—Б—В–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є) –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞.
–Я—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤, —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–≤ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–µ.
–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –≤ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е: –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–±–Њ—А–∞ –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Њ–ї–±–∞—Е, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–Љ–Є –љ–∞—Б–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –∞–Ї—В–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞ –Є –Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Ј–µ–Љ–ї–µ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е 15 –Є –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ—В.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –≤ —Б–Є–ї–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 4-–Ъ–Р–Ф25-4-–Ъ1
55. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –µ–≥–Њ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А –µ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є.
–Я—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥., –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –°. –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤. –°. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П), –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Њ—В—З–µ—В –Њ—Ж–µ–љ—Й–Є–Ї–∞ –Њ—В 30 –Є—О–ї—П 2021 –≥.
–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є –њ—А–Є–љ—П—В—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ—В 24 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2021 –≥. –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, —А–∞–≤–љ–Њ–Љ –Є—Е —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥., –≤ –Х–У–†–Э 24 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2021 –≥. –≤–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –∞–Ї—В–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В 24 –Є—О–ї—П 2023 –≥. —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥. —Б –і–∞—В–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П 10 –Є—О–ї—П 2023 –≥.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 13 –љ–Њ—П–±—А—П 2023 –≥. –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. —Б –і–∞—В–Њ–є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2024 –≥.
–°. –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 2023 –≥. –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –µ–є –љ–∞ –њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, —А–∞–≤–љ–Њ–Љ –Є—Е —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥., –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ –Њ—В—З–µ—В –Њ–± –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Њ—В 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–∞ –Њ—В 16 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2024 –≥. —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –°., –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, —А–∞–≤–љ–Њ–Љ –Є—Е —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥.
–Я–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ —Б—Г–і–Њ–Љ —Б 10 –Є—О–ї—П –њ–Њ
31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥. –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ—Г–љ–Ї—В 1 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 194 –Ъ–Р–° –†–§.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і—Л –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –°. —Г–ґ–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–µ—Е –ґ–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞ —В—Г –ґ–µ –і–∞—В—Г –Є –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Б—М —А–∞–љ–µ–µ –≤ –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Г—О —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М
–Ј–і–∞–љ–Є–є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Є–ї—Г –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞, —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Г –љ–µ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 16 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 3 –Є—О–ї—П 2016 –≥. вДЦ 237-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 237-–§–Ч) –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤–љ–Њ–≤—М —Г—З—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞–љ–µ–µ —Г—З—В–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –≤ –Х–і–Є–љ—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–µ—Б—В—А –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –љ–Є—Е –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Є—Е –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є (–Є–ї–Є) –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –і–∞—В–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Є –і–∞—В–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –±—О–і–ґ–µ—В–љ—Л–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ.
–Я–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 22 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 237-–§–Ч —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ—Л –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –≤ —Б—Г–і–µ. –Ф–ї—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 7 —Б—В–∞—В—М–Є 22 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 237-–§–Ч —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—Б–њ–Њ—А–µ–љ—Л –≤ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Є–ї–Є –≤ —Б—Г–і–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –і–∞—В—Г, –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М.
–Ш–Ј –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П–Љ–Є –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є.
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ 2019 –Є 2023 –≥–Њ–і—Г, –µ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥. –Є –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2023 –≥. —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ).
–Ь–µ–ґ–і—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–∞—В–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Л—Е –Њ—Ж–µ–љ–Њ–Ї –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞–Ї—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В 24 –Є—О–ї—П 2023 –≥.
–Э–∞ 20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥., —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –і–∞—В—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, —А–∞–≤–љ–Њ–Љ –Є—Е —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥., –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–Є–Њ–і –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —Б 10 –Є—О–ї—П –њ–Њ 31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2023 –≥.
–Ъ–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–∞—П —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ 2021 –≥–Њ–і—Г, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –і–∞—В–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є, –і–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –∞–Ї—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В 24 –Є—О–ї—П 2023 –≥., —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є 16 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 237-–§–Ч –љ–Њ–≤—Г—О –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤—Г—О —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –і–Њ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2024 –≥., —З—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Л–≤–Њ–і —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –°. –µ—Й–µ –≤ 2021 –≥. —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і–∞—Б—В—А–Њ–≤–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ–і–≤–Є–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1 —П–љ–≤–∞—А—П 2019 –≥., –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ —Б–њ–Њ—А –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О —Б—Г–і–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—А–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞.
–Т–≤–Є–і—Г –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–і –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 19-–Ъ–Р–Ф25-4-–Ъ5
56. –Р–њ–њ–∞—А–∞—В —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ–± –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є) —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 18 –Љ–∞—А—В–∞ 2020 –≥. вДЦ 48-–§–Ч
¬Ђ–Ю–± —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Ч–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 48-–§–Ч).
–°—В–∞—В—М–µ–є 14 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вИТ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞) –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є).
–Я–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1.1 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї–∞–Љ–Є –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–µ—В –Њ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–µ –њ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞.
–Ъ–∞–і—А–Њ–≤–Њ–µ –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 2 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є).
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤—Г —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤ –Є –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї–∞–Љ–Є –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—Г–і —Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є —Б–Њ –і–љ—П –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –љ–Њ—А–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —З–∞—Б—В–Є, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–µ–є—Б—П
–£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ –Є—Е –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –±–Њ–ї—М—И—Г—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є–ї—Г.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–∞–Љ–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П.
–°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї, –Ї—А–∞–µ–≤, –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є, –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–±—Й–Є–Љ–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ (—З–∞—Б—В—М 1 —Б—В–∞—В—М–Є 77).
–Я—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞—В—Г—Б —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ вДЦ 48-–§–Ч, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є; –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –±—О–і–ґ–µ—В–љ—Л—Е –∞—Б—Б–Є–≥–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –±—О–і–ґ–µ—В–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є (—З–∞—Б—В–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 18).
–Т —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 1 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 48-–§–Ч, –£–Ї–∞–Ј–∞ –Я—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 14 –љ–Њ—П–±—А—П 2024 –≥. вДЦ 975 ¬Ђ–Ю–± —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ—З–љ—П —В–Є–њ–Њ–≤—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –Є –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2021 –≥. вДЦ 414-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Њ–±—Й–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ ¬Ђ–Ю–± –Њ–±—Й–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї) —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Є–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є (—З–∞—Б—В—М 5 —Б—В–∞—В—М–Є 1).
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –Є –Є–љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –∞–Ї—В—Л —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –њ–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П (—З–∞—Б—В—М 2 —Б—В–∞—В—М–Є 3).
–Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—П –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 37 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞
¬Ђ–Ю–± –Њ–±—Й–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–± –Є–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –≤ —З–∞—Б—В–Є 2 –њ—А–∞–≤–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–∞—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–µ–є (—Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ), –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Т —З–∞—Б—В–Є 5 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ —Б—В–∞—В—М–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ј–∞–і–∞—З–Є –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж, –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 14 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ–± –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М, –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—Г—В–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –∞–Ї—В–Њ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤—Л—Б—И–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 18 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 48-–§–Ч, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –і–Њ–≤–Њ–і –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ –Њ –љ–µ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ —Б—В–∞—В—М–Є —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л–Љ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е —Б—В–∞—В—Г—Б —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–± –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –њ–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞ –≤ —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, —Б—Г–і—Л –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ —Г—З–ї–Є, —З—В–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є вАУ –ї–Є—Ж–Њ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є; —Н—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—З—А–µ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Ж–µ–ї—П—Е –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–∞–≤ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ (—З–∞—Б—В–Є 1вАУ3 —Б—В–∞—В—М–Є 1 –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 48-–§–Ч).
–Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ–∞ –Њ—В –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞—А—Г—И–∞—В—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –£–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П.
–Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –њ—А–∞–≤–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—Ж–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ.
–Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ –Њ—В 27 –Љ–∞—П 2003 –≥. вДЦ 58-–§–Ч
¬Ђ–Ю —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–∞–±–Ј–∞—Ж—Л –њ—П—В—Л–є –Є —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 1).
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–µ–±–љ–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 39- –Ъ–Р–Ф25-2-–Ъ1
–Я—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е
–њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е
57. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б —А–∞–љ–µ–µ –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –Ю. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ (—Ж–Є—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ—Л –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ю. –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є) —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –≤–ї–µ—З–µ—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 11 –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –њ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї—Г —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Ї —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1993 –≥.
вДЦ 1090 (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П), –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –±–µ–Ј —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ, –њ–Њ–і–і–µ–ї—М–љ—Л–µ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —Г–Ј–ї–Њ–≤ –Є –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –Є–ї–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є.
–Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ю. –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 11 –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б –і–∞—В—Л, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –і–∞—В–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ю. –і–∞–љ–љ—Л–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–µ—В –±—Л–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ вАУ –Ю.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 18 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2018 –≥. вДЦ 283-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–µ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Я—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2019 –≥. вДЦ 1764 ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є 56, 58вАУ60 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ, –Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П –љ–µ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є
–Є –≤–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–љ—Л–µ —Г—З–µ—В—Л —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –У–Њ—Б–∞–≤—В–Њ–Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 61).
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 4 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –Є—О–љ—П 2019 –≥. вДЦ 20 ¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є—Е –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤–Њ–є 12 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е¬ї, –њ–Њ–і –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е), –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –Њ—В –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤—Л–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ —А–∞–љ–µ–µ (–і–Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞), –ї–Є–±–Њ –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ, –ї–Є–±–Њ –љ–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ).
–°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ю. —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б —А–∞–љ–µ–µ –≤—Л–і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 83-–Р–Ф25-1-–Ъ1
58. –Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –Є —А–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ–∞—Е, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В—Л –≤—Б–µ –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—О —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ј–∞ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ) –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 5.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 5.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤, —А–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ–∞ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е, –∞—Г–і–Є–Њ–≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е
–∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –Є —А–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ–∞—Е.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–≤ ¬Ђ–≤¬ї, ¬Ђ–≥¬ї –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 3 —Б—В–∞—В—М–Є 48 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В
12 –Є—О–љ—П 2002 –≥. вДЦ 67-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П—Е –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤ –Є –њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —А–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ вДЦ 67-–§–Ч) –њ—А–µ–і–≤—Л–±–Њ—А–љ–∞—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П, –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ —А–µ—Д–µ—А–µ–љ–і—Г–Љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—В–µ–ї–µ–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–µ—В—П—Е, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Б–µ—В—М ¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В¬ї, –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е, –∞—Г–і–Є–Њ–≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤, –Є–љ—Л–Љ–Є –љ–µ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 94 —Б—В–∞—В—М–Є 48 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞
вДЦ 67-–§–Ч –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤), —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ, –ї–Є–±–Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ, –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤) —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В.
–Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–≤—Л–±–Њ—А–љ–Њ–є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —З–∞—Б—В—М—О 93 —Б—В–∞—В—М–Є 46 –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Т —Б–Є–ї—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 6 —Б—В–∞—В—М–Є 54 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 67-–§–Ч –Є —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 52 —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 94 —Б—В–∞—В—М–Є 48 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 67-–§–Ч –Є —З–∞—Б—В—М—О 93 —Б—В–∞—В—М–Є 46 –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –≤—Л–±–Њ—А—Л –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤ –≤ –і–µ–њ—Г—В–∞—В—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–є –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є, –њ–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–Ї—А—Г–≥—Г; –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –І., —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ —А–µ–µ—Б—В—А–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж, –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є.
–Т —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–∞ –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –і–µ—Б—П—В–Є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж (–њ–Њ–ї–Њ—Б), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е 5 –Є 6, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±–Њ–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –ї–Є—Б—В, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 94 —Б—В–∞—В—М–Є 48 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 67-–§–Ч –Є —З–∞—Б—В—М—О 93 —Б—В–∞—В—М–Є 46 –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤
–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞ (–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤), —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–Љ, –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є –љ–∞ –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е —Н—В–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–Њ–≤ –ґ–Є–ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—З–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞, –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л 5 –Є 6 —Б –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є –Њ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞, –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ –∞–≥–µ–љ—В–Њ–Љ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л–±–Њ—А–Њ–≤ –Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 94 —Б—В–∞—В—М–Є 48 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 67-–§–Ч –Є —З–∞—Б—В—М—О
93 —Б—В–∞—В—М–Є 46 –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 5.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є —Б –®. –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –њ–µ—З–∞—В–љ—Л—Е –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–Љ —П—Й–Є–Ї–∞–Љ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є) –Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П.
–С–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є, –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Є–Љ–µ–≤—И—Г—О—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Б–µ—Е –Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є—Е –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—А –њ–Њ —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—О —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ј–∞ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –®. —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 5.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я—А–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 84-–Р–Ф25-1-–Ъ3
59. –Э–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–Њ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–Ј–∞–њ—А–Њ—Б–∞) —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ї–Є—Ж–Њ, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –≤–ї–µ—З–µ—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ
—Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –≥–ї–∞–≤–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П (–і–∞–ї–µ–µ —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ) –Э. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О.
–°—В–∞—В—М–µ–є 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є—Е –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –∞ —А–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –і–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 1 –Є –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 3 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 38 –£–Я–Ъ –†–§ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –≤–њ—А–∞–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М —Е–Њ–і —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 3 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 73 –£–Я–Ъ –†–§ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—О –њ—А–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г.
–Т —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 21 –£–Я–Ъ –†–§ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—Л –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –і–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –і–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—П, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Є—Е –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –£–Я–Ъ –†–§, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ–Є.
–Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–±–Њ—А–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ц., –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 21 –£–Я–Ъ –†–§ –љ–∞ –Є–Љ—П –≥–ї–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –љ–∞ –Ц., –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞—П —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г, –љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≥–ї–∞–≤–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Э. —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–µ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –£–Я–Ъ –†–§, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Ф–Њ–≤–Њ–і—Л –Э. –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б –±—Л–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –і–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є.
–Ю–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ–≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Є –і–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—П, —В–∞–Ї –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є. –Ф–Є—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–∞–Љ, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г, —З—В–Њ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ.
–Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Њ–± –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –£–Я–Ъ –†–§, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –ї–Є—Ж–µ –µ–µ –≥–ї–∞–≤—Л.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Э., –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є —Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П, –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–µ–µ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ —Б—В–∞—В—М–µ 17.7 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я—А–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 57-–Р–Ф25-1-–Ъ1
60. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–Є (–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є) –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ–і–∞–≤–µ—Ж —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Є –Њ–љ –љ–µ –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –µ–≥–Њ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤—Л—И–µ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –Ґ. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ (—Ж–Є—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ—Л –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ґ. –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є) –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –њ—А–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—О—Й–Є–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї —Б–≤–µ—В–Њ—Д–Њ—А–∞ –Є–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—О—Й–Є–є –ґ–µ—Б—В
—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 12.10 –Є —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤–ї–µ—З–µ—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ.
–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 2.61 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Є—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —Д–Њ—В–Њ- –Є –Ї–Є–љ–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Є, –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є, –Є–ї–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Д–Њ—В–Њ- –Є –Ї–Є–љ–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Є, –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є (–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л) —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.
–Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ (–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ) –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ґ., –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 6.2 –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ вАУ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1993 –≥. вДЦ 1090, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ—А–Њ–µ–Ј–і –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞—О—Й–Є–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї —Б–≤–µ—В–Њ—Д–Њ—А–∞.
–≠—В–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–Љ –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ.
–†–∞–љ–µ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –≤—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–Љ, –Ґ. –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞—Б—М –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ґ. –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 1.5 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –ї–Є—Ж–Њ, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ–µ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ.
–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б—В–∞—В—М–µ 1.5 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ–µ —З–∞—Б—В–Є 3 –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Є—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —Д–Њ—В–Њ- –Є –Ї–Є–љ–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Є, –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є, –Є–ї–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Д–Њ—В–Њ- –Є –Ї–Є–љ–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Є, –≤–Є–і–µ–Њ–Ј–∞–њ–Є—Б–Є.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ґ. –Ї–Њ–њ–Є–Є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–Є —Б —Б–∞–є—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –∞–≤—В–Њ—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є —Б—Г–і—М—П–Љ–Є –љ–Є–ґ–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –љ–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В
–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–Ї—Б–∞—Ж–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—Л–ї–Њ –Є–Ј –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Ґ.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–µ —Г—З–µ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Ґ.
–Т —Б–Є–ї—Г –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 18 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 2018 –≥. вДЦ 283-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—З–µ—В —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–є –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є –і–љ–µ–є —Б–Њ –і–љ—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–Я—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 57 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 21 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2019 –≥. вДЦ 1764 ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –і–µ–ї –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є —Б–і–µ–ї–Ї–Є, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ –љ–Њ–≤—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ.
–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ґ. —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –Ї—Г–њ–ї–Є-–њ—А–Њ–і–∞–ґ–Є –і–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –µ–µ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є
12.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ —Б –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –µ–≥–Њ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 48-–Р–Ф25-1-–Ъ7
61. –Я—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –≤—Л—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М —Д–∞–Ї—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–µ –љ–∞ —Б—Е–µ–Љ–µ (–њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ) –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –У. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є
–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 12.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –У. –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є) –≤—Л–µ–Ј–і –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –і–ї—П –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –ї–Є–±–Њ –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 3 —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є, –≤–ї–µ—З–µ—В –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–І–∞—Б—В—М—О 5 —Б—В–∞—В—М–Є 12.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 1.3 –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ вАУ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1993 –≥. вДЦ 1090 (–і–∞–ї–µ–µ вИТ –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞), —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –Ј–љ–∞—В—М –Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –љ–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Я—А–∞–≤–Є–ї, —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —Б–≤–µ—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—В–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –њ—А–∞–≤ –Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞–Љ–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–Њ–љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ 3.20 ¬Ђ–Ю–±–≥–Њ–љ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ¬ї –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П 1 –Ї –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Њ–±–≥–Њ–љ –≤—Б–µ—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Є—Е–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –≥—Г–ґ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї, –≤–µ–ї–Њ—Б–Є–њ–µ–і–Њ–≤, –Љ–Њ–њ–µ–і–Њ–≤ –Є –і–≤—Г—Е–Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л—Е –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–≤ –±–µ–Ј –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Ж–µ–њ–∞.
–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –У. –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ, —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1.3 –Я—А–∞–≤–Є–ї –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–Њ–љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ 3.20 ¬Ђ–Ю–±–≥–Њ–љ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ¬ї –≤—Л–µ—Е–∞–ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –і–ї—П –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –Њ–±–≥–Њ–љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.
–°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Л –Є–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 16 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2017 –≥.
вДЦ 443-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2017 –≥. вДЦ 443-–§–Ч) –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ—Л–µ —Б—Е–µ–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є (–Є–ї–Є) –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П.
–Ф–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—Г–љ–Ї—В—Г 10 —Б—В–∞—В—М–Є 3 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В
29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2017 –≥. вДЦ 443-–§–Ч –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–∞—Е —Б —Ж–µ–ї—М—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–±
—Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Є —А–µ–ґ–Є–Љ–∞—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П (–У–Ю–°–Ґ –† 52290-2004. –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П. –Ч–љ–∞–Ї–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–µ. –Ю–±—Й–Є–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Є –≤–≤–µ–і–µ–љ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –†–Њ—Б—В–µ—Е—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В 15 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2004 –≥.
вДЦ 121-—Б—В).
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –і–Њ—А–Њ–≥–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П (—З–∞—Б—В—М 7 —Б—В–∞—В—М–Є 11 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2017 –≥. вДЦ 443-–§–Ч).
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 15 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 25 –Є—О–љ—П 2019 –≥. вДЦ 20
¬Ђ–Ю –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є—Е –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤–Њ–є 12 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е¬ї, –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 12.15 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –≤—Л–µ–Ј–і–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –і–ї—П –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ –Є–ї–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є —А–∞–Ј–Љ–µ—В–Ї–Є, –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї/—А–∞–Ј–Љ–µ—В–Ї–∞ (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ) –і–Њ–ї–ґ–µ–љ/–і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ/–љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ/–Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —Б—Е–µ–Љ–µ (–њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ) –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е).
–Т –ґ–∞–ї–Њ–±–∞—Е –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –У. –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ —Б—Е–µ–Љ–µ –і–Є—Б–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ 3.20
¬Ђ–Ю–±–≥–Њ–љ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ¬ї, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –ґ–∞–ї–Њ–± —Б—Г–і—М–Є –љ–Є–ґ–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–Є—Б—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–∞, –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –ї–Є –Њ–љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –ї–Є –Њ–љ –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –У. —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ—Л, –і–µ–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 53-–Р–Ф25-7-–Ъ8
62. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ, —П–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П, –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ
—Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л—И–µ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 9.21 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —З–∞—Б—В–Є 1 —Б—В–∞—В—М–Є 24.5 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞.
–І–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 9.21 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 13 –Є—О–ї—П 2015 –≥. вДЦ 250-–§–Ч) —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї (–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П) –љ–µ–і–Є—Б–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞ –Є–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П (—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П) –Ї –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–µ—Д—В–µ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ –Є (–Є–ї–Є) –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–µ—Д—В–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–µ—В—П–Љ, —В–µ–њ–ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–µ—В—П–Љ, –≥–∞–Ј–Њ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–µ—В—П–Љ –Є–ї–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ –≥–Њ—А—П—З–µ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ—Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –ї–Є–±–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Б–µ—В–µ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–µ–і–Є—Б–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞ –Ї —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ –њ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –ї–Є–±–Њ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –≤–Њ–і–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Є (–Є–ї–Є) –Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–µ—В–µ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –≤–Њ–і—Л –њ–Њ –Є—Е –≤–Њ–і–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ—Л–Љ —Б–µ—В—П–Љ –Є (–Є–ї–Є) —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ —Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –њ–Њ –Є—Е –Ї–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ —Б–µ—В—П–Љ.
–Э–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Я. –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–Є—Е –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –≤ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і.
–Т —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–µ —Б—Г–і—М—П —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—О –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤, —З—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—Л –Я. –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і, –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–µ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є–ї–Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ—В—Б—П –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ (—З–∞—Б—В–Є 3, 4 —Б—В–∞—В—М–Є 30.1 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§).
–°—В–∞—В—М–µ–є 207 –Р–Я–Ъ –†–§ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞ –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –Є–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –і–µ–ї–∞ –Њ–±
–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—Ж, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –Є –Є–љ—Г—О —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ –њ–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –Р–Я–Ъ –†–§, —Б –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –≥–ї–∞–≤–µ 25 —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е (—З–∞—Б—В—М 1).
–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є –Є–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–Є—Е (—З–∞—Б—В—М 2).
–Я–Њ–і–≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В —Б—В–∞—В—Г—Б–∞ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤—И–µ–≥–Њ, –∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–µ–є –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є (–Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є) –ї–Є—Ж–∞ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є–±–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –ї–Є—Ж–∞ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 9.21 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Я. –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ–ї–Њ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—Г–і—М—П —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Я. –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –њ–Њ–і–≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Я. —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–∞–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –≤ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ—Л–є —Б—Г–і. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я. —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Я. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –°—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—А–∞–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є.
–Я—А–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л —Б—Г–і–µ–є —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –∞–љ—В–Є–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 67-–Р–Ф25-3-–Ъ8
63. –Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ъ. –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 11 —Б—В–∞—В—М–Є 15.231 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б—Г–і—М–Є –Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ъ. –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 4 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 30.17 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л.
–Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ъ. –≤ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 34, –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Б—В–∞—В—М–Є 36 –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ–± –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 12.4 –£—Б—В–∞–≤–∞ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є–ї—Б—П –Њ—В —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≥–Њ–і.
–Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ъ. –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ь. –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —З–∞—Б—В—М—О 11 —Б—В–∞—В—М–Є 15.231 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –≤ —Б–Њ–Ј—Л–≤–µ –Є–ї–Є —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є (–і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є) –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Ї –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г —Б–Њ–Ј—Л–≤–∞, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є (–і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є) –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є –і–ї—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ–µ.
–Ю—В–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –∞–Ї—В—Л —Б—Г–і–µ–є –љ–Є–ґ–µ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤, —Б—Г–і—М—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–≤, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–µ—Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і—М—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –і–µ–ї–∞ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≠., –ѓ. –Є –Ь. –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Л–≤–Њ–і—Л —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–µ–ї –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –С–∞–љ–Ї–∞
–†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ—Л –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 81 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 28.3 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 11 —Б—В–∞—В—М–Є 15.231 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –≤–њ—А–∞–≤–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 28.3 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –њ—А–∞–≤–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—П–Љ–Є 1, 2, 3 –Є 62 –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є, —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –С–∞–љ–Ї–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ–Є –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Я–Њ–і–њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 1.2 –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 1 —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В 29 –Є—О–ї—П 2022 –≥.
вДЦ 6210-–£ ¬Ђ–Ю –њ–µ—А–µ—З–љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е¬ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 11 —Б—В–∞—В—М–Є 15.231 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є—Е –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –ї–Є—Ж–∞ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—О —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є.
–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—Й–Є–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –¶. –≤–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–Ј–і–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—Л –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е.
–Т –і–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –С–∞–љ–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ь.
–£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б—Г–і—М–µ–є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є.
–Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–± –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ, –і–µ–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 127-–Р–Ф25-9-–Ъ4
64. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–∞—В—М–Є 4.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ, –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П
–Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ (—З–∞—Б—В—М 4 —Б—В–∞—В—М–Є 18.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§).
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 18.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞.
–І–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 18.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 3 —Б—В–∞—В—М–Є 23 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 18 –Є—О–ї—П 2006 –≥. вДЦ 109-–§–Ч ¬Ђ–Ю –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —Г—З–µ—В–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –Є –ї–Є—Ж –±–µ–Ј –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –њ—А–Є —Г–±—Л—В–Є–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є–Ј –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л –Є–ї–Є –Є–Ј –Є–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є, –Є–Ј —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є—П, –і–Њ–Љ–∞ –Њ—В–і—Л—Е–∞, –њ–∞–љ—Б–Є–Њ–љ–∞—В–∞, –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А—П, —Б —В—Г—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј—Л, –Є–Ј –Ї–µ–Љ–њ–Є–љ–≥–∞, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Є–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ –і–љ—П, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ј–∞ –і–љ–µ–Љ —Г–±—Л—В–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞, –≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞.
–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–≤—И–µ–µ –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є –Є —П–≤–ї—П–≤—И–µ–µ—Б—П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –і–ї—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –£–Ј–±–µ–Ї–Є—Б—В–∞–љ –Ъ., –њ–Њ—Б–ї–µ —Г–±—Л—В–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –Є–Ј –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –≤ –Њ—А–≥–∞–љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ—В–∞ —Г–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г–±—Л—В–Є–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞.
–С–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 18.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–µ–є –і–∞–љ–љ–Њ–є –љ–Њ—А–Љ—Л.
–Ф–Њ–≤–Њ–і—Л –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ —Б—В–∞—В—М—О 4.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –Њ—В –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –і–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–µ–є —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 18.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –≤ –µ–і–Є–љ—Л–є —А–µ–µ—Б—В—А —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ—Л —Б—Г–і—М–µ–є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є.
–Т —З–∞—Б—В–Є 4 —Б—В–∞—В—М–Є 4.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –Ј–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ II –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –ї–Є—Ж–∞,
–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –љ–µ—Б—Г—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—О 1 –Ї —Б—В–∞—В—М–µ 18.1 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Ј–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ–є –Є –Є–љ—Л–Љ–Є —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є –≥–ї–∞–≤—Л 18 –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞, –ї–Є—Ж–∞, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ—Б—Г—В –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤, –µ—Б–ї–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–∞—В—М—П—Е –≥–ї–∞–≤—Л 18 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—Ж, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж.
–°—В–∞—В—М–µ–є 18.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—Ж, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±–µ–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞, –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Њ—В –њ—А–∞–≤–Є–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж, –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—М–Є 4.12 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П–љ–Є—П, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П –∞–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 5-–Р–Ф25-39-–Ъ2
65. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А—Л, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –і–≤—Г–Љ—П –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є (—З–∞—Б—В—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є) —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ II –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –ї–Є–±–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –Є—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 4.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Ь–µ–ґ—А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А–Њ–є —Б –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –≤ —Е–Њ–і–µ –≤—Л–µ–Ј–і–љ–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –њ—А–Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ –Ї–∞—А—В –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞, —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П –Њ—В—Е–Њ–і—Л, –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—О –≤ —Б–Є–ї—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 8 —Б—В–∞—В—М–Є 12 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 24 –Є—О–љ—П 1998 –≥. вДЦ 89-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Њ—В—Е–Њ–і–∞—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П¬ї.
–Я–Њ —Д–∞–Ї—В—Г —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ—А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 8.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–°—Г–і—М—П —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –ґ–∞–ї–Њ–±—Г, –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Г—О –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞—В—М–µ–є 8.1, —З–∞—Б—В—М—О 4 —Б—В–∞—В—М–Є 8.2, —З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 8.4, —Б—В–∞—В—М–µ–є 8.41 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Њ –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.1, —З–∞—Б—В—М—О 1 —Б—В–∞—В—М–Є 4.4 –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞.
–Я–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л —Б—Г–і—М—П —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –≤—Л–љ–µ—Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ–ї–∞ –≤ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —З–∞—Б—В–µ–є 2, 5, 6 —Б—В–∞—В—М–Є 4.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П (–±–µ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П), —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Л –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –і–≤—Г–Љ—П –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ) –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ –ї–Є–±–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є (—З–∞—Б—В—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є) –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–°—Г–і—М—П —Б—Г–і–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –≤—Л–љ–µ—Б—И–Є–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї –і–∞–љ–љ—Л–є –∞–Ї—В —Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ—В –ґ–µ —Б—Г–і.
–Я—А–Є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і—М—П —Б—Г–і–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞ –Ј–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—О (–љ–∞–і–Ј–Њ—А—Г), –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—О, –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —З–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 4.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є.
–°—Г–і—М—П –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і—М–Є —Б—Г–і–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –і–∞–љ–љ—Л–є –∞–Ї—В –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–≤ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –љ–µ–Љ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П.
–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 4.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ) –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –≤ —Е–Њ–і–µ
–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞), –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤–∞ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –і–≤—Г–Љ—П –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—В–∞—В—М—П–Љ–Є (—З–∞—Б—В—П–Љ–Є —Б—В–∞—В—М–Є) —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ II –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –ї–Є–±–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В—П–Љ–Є 2вАУ4 –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є.
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В 18 –Є—О–ї—П 2024 –≥. вДЦ 39-–Я ¬Ђ–Я–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Є 13-3 —Б—В–∞—В—М–Є 32.2 –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П—Е –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О ¬Ђ–Э–Ґ–°–Ш –Ґ–µ–ї–µ–Ї–Њ–Љ¬ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ —Б—В–∞–≤–Є—В –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л—Е –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Њ–і–љ–Є—Е –Є —В–µ—Е –ґ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –љ–Њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞: –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞), —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –њ—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є.
–Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –°—Г–і –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—Г—Б–∞ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А—Л –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞) –≤ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ—Л —Б –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–µ) –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ–Є) –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ–Є (–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є), –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –ї–Є—Ж, –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А—Л, —В–µ—Е –ї—М–≥–Њ—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞).
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—М—О 6 —Б—В–∞—В—М–Є 4.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –њ—А–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Ї—Г—А–∞—В—Г—А—Л.
–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –°—Г–і–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ —Н—В–Њ–є –љ–Њ—А–Љ–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П
–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 31 –Є—О–ї—П 2020 –≥. вДЦ 248-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–µ) –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –Є –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 26 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2008 –≥. вДЦ 294-–§–Ч ¬Ђ–Ю –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—Ж –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П (–љ–∞–і–Ј–Њ—А–∞) –Є –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П¬ї. –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ
¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М (–љ–∞–і–Ј–Њ—А)¬ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—В—М, –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—П –µ–≥–Њ —А–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –Ш–љ–Њ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –±—Л –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ вАУ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ 1.4 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§.
–Я—А–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є —Б—Г–і–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–±—Й–µ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л —Б—Г–і—М–µ–є –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ—Л.
–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 69-–Р–Ф25-2-–Ъ7
–°–£–Ф–Х–С–Э–Р–ѓ –Ъ–Ю–Ы–Ы–Х–У–Ш–ѓ
–Я–Ю –Ф–Х–Ы–Р–Ь –Т–Ю–Х–Э–Э–Ю–°–Ы–£–Ц–Р–©–Ш–•
66. –Ю–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–њ–Є–Є –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞, –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В —Г—З–µ—В—Г –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ–± —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—З–Є–љ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—А–Њ–Ї–∞ –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л.
–†–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–∞ –Ш. –Њ–± –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Њ–± –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —В—П–ґ–µ—Б—В–Є —Г–≤–µ—З—М—П.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ш. –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–∞—З—Г –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–∞ –±–µ–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г.
–°—Г–і—М—П –°—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ—Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б—В–∞—В—М–Є 3271 –Ъ–Р–° –†–§ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б—А–Њ–Ї –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤, –і–µ–ї–Њ —Б –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б—Г–і –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П.
–Т –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і—М–µ–є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ.
–Т —Б–Є–ї—Г —З–∞—Б—В–Є 3 —Б—В–∞—В—М–Є 318 –Ъ–Р–° –†–§ —Б—А–Њ–Ї –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Њ–±—А–∞—В–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ–± –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ, –њ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ —Б—Г–і–Њ–Љ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞, –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ —Б–Њ –і–љ—П –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–ґ–∞–ї—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П–Љ, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –њ—Г–љ–Ї—В–µ 11 –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Я–ї–µ–љ—Г–Љ–∞ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –°—Г–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 9 –Є—О–ї—П 2020 –≥. вДЦ 17
¬Ђ–Ю –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–∞–Љ–Є –љ–Њ—А–Љ –Ъ–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –≤ —Б—Г–і–µ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї, –Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М, –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, —Г—Е–Њ–і –Ј–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б–µ–Љ—М–Є, –Є–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–µ—Б—П –Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б—П—Й–Є–µ –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ —Б–Є–ї—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–Є—И–µ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П —Б –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –≤ —Б—Г–і (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –≤—Б–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –ї–Є–±–Њ –љ–∞ –µ–µ —З–∞—Б—В–Є).
–Р–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ш., –њ—А–Є–љ—П—В–Њ 21 –Љ–∞—П 2024 –≥.
–Ъ–Њ–њ–Є—П –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В—Ж—Г –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ш. –∞–і—А–µ—Б—Г 13 –Є—О–љ—П 2024 –≥. –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –Є–Љ 21 –Є—О–љ—П 2024 –≥. –Я—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–є
—З–∞—Б—В—М—О 2 —Б—В–∞—В—М–Є 318 –Ъ–Р–° –†–§ —Б—А–Њ–Ї –Є—Б—В–µ–Ї–∞–ї 21 –љ–Њ—П–±—А—П 2024 –≥.
–Ъ–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В—Ж–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ—З—В–Њ–≤–Њ–Љ—Г —И—В–µ–Љ–њ–µ–ї—О —Б–і–∞–љ–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є 12 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2024 –≥.
–Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–µ—Ж, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –њ—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З –≤ –Ј–Њ–љ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є —В—А–∞–≤–Љ—Г –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–µ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 5 –Є—О–љ—П –њ–Њ 19 –Є—О–ї—П 2024 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –Ї–Њ–њ–Є—П –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ 27 –Є—О–љ—П 2024 –≥. –±—Л–ї –њ—А–Њ–Њ–њ–µ—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ.
–° 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ–Њ 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 2024 –≥. –Њ–љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї—Г—О —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—О –≤ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ, –∞ —Б 23 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –њ–Њ 10 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2024 –≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є.
–Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–µ—Ж –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ –≥–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В—Ж—Г –Ї–Њ–њ–Є–Є –∞–њ–µ–ї–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –Њ–±–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–∞ –≤ –Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–± –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і–∞ —Б—Г–і—М–Є
–Ї–∞—Б—Б–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞ –Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–Ї–∞–Ј–µ –≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ вДЦ 225-–Ъ–Р–Ф25-2-–Ъ10
–†–Р–Ч–™–ѓ–°–Э–Х–Э–Ш–ѓ –Я–Ю –Т–Ю–Я–†–Ю–°–Р–Ь,
–Т–Ю–Ч–Э–Ш–Ъ–Р–Ѓ–©–Ш–Ь –Т –°–£–Ф–Х–С–Э–Ю–Щ –Я–†–Р–Ъ–Ґ–Ш–Ъ–Х
–Т–Ю–Я–†–Ю–°. –І—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї –њ–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і—М–µ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞ –≤–≤–Є–і—Г –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П?
–Ю–Ґ–Т–Х–Ґ. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ 4 —Б—В–∞—В—М–Є 31.7 –і–∞–ї–µ–µ вАУ –Ъ–Њ–Р–Я –†–§ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В—А–∞—Д–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П.
–°—А–Њ–Ї –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ –і–љ—П –µ–≥–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г; —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П, –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Є–ї–Є –њ—А–Њ–і–ї–µ–≤–∞—В—М—Б—П (—Б—В–∞—В—М—П 31.9 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§).
–Я—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –≤ –≤–Є–і–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е —И—В—А–∞—Д–Њ–≤ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–Љ–Є-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є (—З–∞—Б—В—М 5 —Б—В–∞—В—М–Є 32.2 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§). –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –µ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Њ–Љ-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–њ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б—Г–і—М–µ, –≤—Л–љ–µ—Б—И–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є (–њ—Г–љ–Ї—В 3 —З–∞—Б—В–Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 31.10 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§, –њ—Г–љ–Ї—В 9 —З–∞—Б—В–Є 1,
—З–∞—Б—В—М 3, –њ—Г–љ–Ї—В 2 —З–∞—Б—В–Є 6 —Б—В–∞—В—М–Є 47 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –Њ—В 2 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2007 –≥.
вДЦ 229-–§–Ч ¬Ђ–Ю–± –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ¬ї. –Я–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і—М–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞-–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б—Г–і—М–µ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –і–ї—П —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤–≤–Є–і—Г –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ (—Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ) –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ (—З–∞—Б—В–Є 1 –Є 2 —Б—В–∞—В—М–Є 31.8 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§).
–Ъ —З–Є—Б–ї—Г –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –ї–Є—Ж–Њ, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –Њ–± –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–Є (—Б—В–∞—В—М–Є 25.1, 25.3вАУ25.5, 28.3 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§).
–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –ї–Є—Ж–∞–Љ–Є, –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е —И—В—А–∞—Д–Њ–≤ –њ—А–Є –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А—Л –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –±—О–і–ґ–µ—В–∞ –њ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —И—В—А–∞—Д–∞–Љ, –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Г—З–µ—В–∞ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ–є –Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ–є –≤ –±—О–і–ґ–µ—В, –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ –њ–ї–∞—В–µ–ґ–∞–Љ –≤ –±—О–і–ґ–µ—В –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ї –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—О (–њ—Г–љ–Ї—В—Л 2, 3 —Б—В–∞—В—М–Є 472, –∞–±–Ј–∞—Ж—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–є –њ—Г–љ–Ї—В–∞ 2 —Б—В–∞—В—М–Є 1601 –С—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–і–µ–Ї—Б–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є).
–Я—А–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Д–∞–Ї—В–∞ –Є—Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–∞ –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Њ–≤, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б—Г–і—М–µ–є –≤ –≤–Є–і–µ –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П (—З–∞—Б—В—М 4 —Б—В–∞—В—М–Є 31.8 –Ъ–Њ–Р–Я –†–§).
–Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Э–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –∞–Ї—В—Л –і–ї—П –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А–∞¬ї



